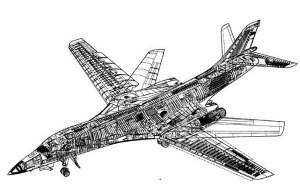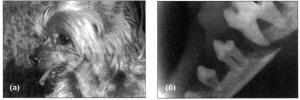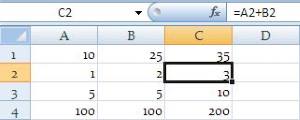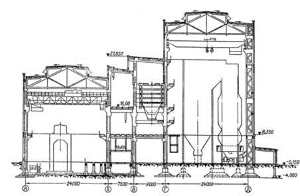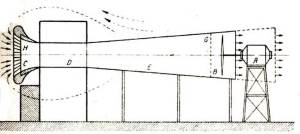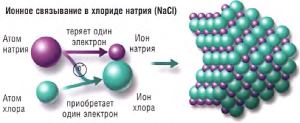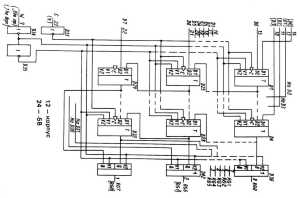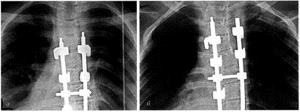Общественные нравы и семейные отношения в традиционном китайском обществе
План.
Особенности восприятия человека как личности в традиционном Китае.
Положение женщины
Воспитание детей.
Дружба и социальные связи, гуаньси.
1.В китайской традиции человек — не мера, а глубина всех вещей. Эта чисто символическая глубина не выражается и не обозначается. Она заявляет о себе, а точнее сказать, скрывает себя в спонтанном неразличении тела и тени, откровении лица и прелести отражений, чисто внутреннего ощущения «костей и плоти» и чисто внешнего декорума церемониала. Человек предстает здесь не в своем внешнем, «человекообразном» обличье, но как полнота духовного опыта — человеком заданная и им же опознаваемая. Человеческое в китайской культуре — не антропоморфная, человекоподобная, а антропогенная, человекопорождающая реальность; не «слишком человеческая», но — глубоко человечная. Уединяясь, человек по традиции открывал себя миру. Конфуцианский муж наделялся миссией «вымести грязь всего света». Буддисты и даосы не снимали ответственности с человека за грех, совершенный во сне. Логика китайского ритуализма требовала признать, что «одинокое превращение» мудрого изливается в сообщность людей, подобно тому как вещи в акте ограничивающей их стилизации открываются небесному простору. Люди едины по пределу своего существования, и этот предел — типизированная форма, нормативный жест, который принадлежит всем и никому в отдельности. Ритуал в китайской традиции не только и не столько упорядочивал отношения между людьми, сколько возвещал о недостижимом. Классическая сентенция гласила, что властелином мира способен стать лишь тот, кто каждый миг ощущает себя «стоящим над пропастью и идущим по тонкому льду». Очевидно, что китайский ритуализм исключал столь привычное на Западе понятие целостной личности и даже индивида (буквально — «неделимой» сущности). Человек традиции — это мать/дитя, учитель/ученик. В китайской мысли сознание не отделялось от чувства, а личность рассматривалась как аналог тела, воплощавшего принцип множественности жизненных миров. Ведь именно тело обусловливает бесконечное разнообразие нашего опыта. Телесность в китайском представлении — как непостижимо сложная сеть каналов циркуляции жизненной энергии, представленных точками, — подлинный прообраз глубины Хаоса, состоящей из разрывов и непоследовательности. «Тело личности» очерчивало область посредования между неопределенной множественностью Хаоса и эстетизированной множественностью этикетных отношений. Поэтому и стилистика китайского портрета извечно варьируется между стереотипно-бесстрастными и экспрессивными, часто откровенно гротескными образами. Первое — явлениене достижимой «усредненнности» одухотворенной Воли; второе — знак жизненной метаморфозы и одновременно напоминание о символической природе внешнего облика. И одно не может существовать без другого.
Стремление в равной мере признавать две стороны личности — биологическую и социальную — отобразилось во многих китайских обычаях, приводя порой к кажущимся противоречиям. Так, китайцы вели отсчет возраста человека с момента зачатия, и каждый Новый год добавлял человеку еще один год жизни, то есть взросление не отделялось от циклов природы. В то же время ребенок до трех лет еще не считался «личностью», и в случае его смерти ему не устраивали похорон. Взросление же человека автоматически повышало его общественный статус. С древних времен в Китае было принято мерить человеческую жизнь равными отрезками времени. Считалось, например, что жизнь мужчины регулируется числом восемь: в восемь месяцев у него появляются молочные зубы, в восемь лет он их теряет, в шестнадцать лет (дважды восемь) достигает зрелости, а в возрасте шестидесяти четырех лет (восемь раз по восемь) мужская сила оставляет его. А в жизни женщины все определяет число семь: в семь месяцев у девочки прорезываются молочные зубы, а в семь лет выпадают, в четырнадцать лет (дважды семь) девушка достигает зрелости, а в сорок девять (семь раз по семь) женщина перестает рожать. Классическая для китайской традиции характеристика духовного взросления принадлежит Конфуцию, который сказал о себе:
В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учению. В тридцать лет имел прочную опору.
В сорок лет у меня не осталось сомнений. В пятьдесят лет я знал веленье Небес.
В шестьдесят лет я настроил свой слух.
А теперь в семьдесят лет следую своему сердцу, не нарушая правил...
У Конфуция духовное мужание как бы сливается с течением самой жизни. По Конфуцию, человек умнеет, как идет в рост семя, — неостановимо, совершенно естественно, нескончаемо. Подобное, так сказать, органическое произрастание духа не знает ни драматических поворотов судьбы, ни сомнений, ни каких-либо «переломных моментов». Сведение духовного смысла жизни к ее природной данности и общественному статусу навсегда осталось характерной чертой конфуцианской литературы, долгое время не знавшей жанра исповеди или духовной биографии. Произведения такого рода появились под влиянием буддизма лишь в последние столетия.
Сделаем некоторые предварительные выводы. Личность в китайской культуре — это не индивид, а устроенная по образцу живого организма иерархическая структура, где высшей ценностью является «движущая сила жизни» (шэн цзи), способность человека «превозмогать себя» (кэ цзи), развиваясь, однако, не произвольно, а согласно заложенным в организме потенциям роста. Отсюда проистекают существеннейшие черты мировоззрения и психологии китайцев: доверие к творческой силе жизни и принятие судьбы, признание неизбежности и вездесущности иерархии и неверие в способность общества без твердой направляющей руки строить свой быт, стремление к согласию и гармонии как в собственной душе, так и в отношениях с окружающими, избегание конфликтов. Если лучший прообраз китайской личности — это растущее и ветвящееся дерево, то китайский социум можно представить в виде густых зарослей, где ветви деревьев тесно сплелись между собой. Таким образом, для китайцев личность — это прежде всего «лицо», воплощение общественной значимости человека. Китайская этика «лица» ставит акцент на взаимозависимости индивидов: человек обладает «лицом» до тех пор, пока оно признается другими, и должен делать то, чего ждет от него общество. Наглядной иллюстрацией китайской идеи личности-лица служит традиционный жанр портрета. Последний с древности вошел в быт как часть культа предков и развивался по законам символического миросозерцания, свойственного китайскому ритуализму. Создание портрета в Китае называлось искусством «передавать дух, выписывать облик», причем слово «облик» (чжао) означало, собственно, «отблеск», «отражение».
Подобно ритуальному жесту, «тени» предков демонстрировали социальную значимость личности. Обязательная для официального портрета торжественная поза, парадная одежда, бесстрастное лицо, составленное из типовых элементов по законам физиогномики таким образом, чтобы являть собою благое знамение, — все это внушало идею должного, благостного, непреходящего, гармонически всеобщего. Перед нами своего рода равнодействующая всех душевных импульсов, некий образ мирового круговорота, неотличимый от стильных, орнаментальных качеств бытия и в своей стильности выражавший концентрацию творческой воли. Плоскостной характер изображения исключал иллюзию внешнего правдоподобия. Перед нами образ, предназначенный не столько для созерцания, сколько, так сказать, для осязания, непосредственного соприкосновения с инобытием. Оттого же ему свойственна известная интимность, и при всей его церемонности он в предельной своей глубине оказывается все-таки портретом родного человека.
Первое в китайской истории наставление по искусству портрета, созданное в XIV в. Ван И, требовало от портретиста способности «запечатлеть в сердце», «видеть с закрытыми глазами» изображаемого человека. Впрочем, акцент на внутреннем постижении ничуть не мешал китайским портретистам со всей тщательностью и в соответствии с установленными правилами выписывать одеяние модели, придавая ему как бы самостоятельное существование. Одежда, подобно нормативному жесту, есть декорум лика и как таковая имеет в рамках китайского миросозерцания не меньшее значение, чем само лицо. Неофициальный портрет обязательно имел свой фон или, точнее, окружение — также не менее важное, чем сам портрет. Таким окружением обычно служит могучее дерево, интерьер комнаты или уголок сада, где все предметы предстают знаками возвышенного состояния изображенного на портрете человека. Человек и мир в китайском портрете немыслимы друг без друга; они призваны сотрудничать в деяниях творческой силы бытия.
2.
В традиционном отношении китайцев к женщине есть что-то глубоко неловкое, неуклюжее, даже жестокое, ибо это отношение с редким упорством и последовательностью отрицает в женщине женское начало, присущие только женщине переживания, интересы и мечты. «Женщина сильнее мужчины», — гласит поговорка китайских крестьян, в которой без всякой иронии отразился взгляд на женщину как прежде всего работницу. Впрочем, в патриархальной китайской семье важная хозяйственная роль женщины отнюдь не прибавляла ей славы. Еще в «Книге Песен», древнейшем собрании народных песен Китая, говорится: «Когда рождается мальчик, его кладут на постель и дают ему играть с яшмой; когда рождается девочка, ее кладут на пол и дают ей играть с черепком». Девочка не могла продолжить мужской род, и ее предстояло выдать замуж — для родного дома она была «отрезанный ломоть». Поэтому девочек нередко даже не посвящали в секреты семейного ремесла, чтобы, выйдя замуж, они не могли передать их чужим людям.
Женщина признавалась и ценилась в Китае лишь постольку, поскольку была необходима для функционирования семьи и ведения хозяйства. Все прочие женские качества официальная мораль китайского общества старалась игнорировать или, по крайней мере, перевести в область отвлеченных мечтаний. Конфуцию принадлежит довольно резкое замечание о женщинах: «В доме труднее всего иметь дело с женщинами и слугами. Если их приблизить, они становятся дерзкими, а если отдалить — озлобляются». С тех пор конфуцианские блюстители морали из века в век приписывали женщинам целый сонм пороков: злословие, коварство, тщеславие, легкомыслие и заурядную глупость (открыто приписывать женщинам похотливость не позволяло конфуцианское целомудрие). Впрочем, озабоченность ученых мужей моральным обликом жен и дочерей во многом объясняется тем, что в Китае семейный быт имел политическое значение и, по существу, не отделялся от государственного уклада. Как писал в XVIII в. чиновник Лань Динъюань: «Основа государственного правления —это обычаи народа. Обычаи народа определяются жизнью в семье. Семейная же жизнь зависит от поведения женщин».
Конфуцианство попыталось решить проблему взаимоотношений полов радикальным образом — путем полного запрета на общение посторонних мужчин и женщин, даже родственников. Конфуций, по преданию, запретил мужчинам и женщинам ходить по одной стороне улицы и даже сидеть за одним столом. Древние моралисты всерьез обсуждали вопрос о том, правильно ли поступил человек, который подал руку утопающей жене брата. Женщинам вообще полагалось находиться во «внутренних покоях» дома, и они могли в лучшем случае тайком наблюдать за мужской компанией. Девочкам уже с детства запрещали играть с мальчиками. Девушкам же отказывали, а в деревнях и поныне часто отказывают в праве самим выбирать себе жениха. Брак устраивали родители, и нередко невеста впервые видела своего суженого лишь после того, как переезжала к нему в дом. Одна из самых примечательных черт традиционного семейного быта китайцев — полное отсутствие каких-либо публичных знаков любовных отношений между мужем и женой. Такие знаки считались предосудительными уже потому, что давали повод усомниться в преданности мужа его родителям. Разумеется, в новой семье молодая жена должна была безропотно повиноваться мужу и свекрови. Лишь по прошествии многих лет, если ей удавалось родить и вырастить наследника, она могла стать хозяйкой, потеряв к тому времени последние остатки своей женственности. Если муж умирал, жене предписывалось — с течением времени все строже и строже — хранить целомудрие и не выходить замуж вторично. Столь благонравное поведение приносило вдове почет, а ее семье — славу, но вряд ли делало ее счастливой. Только муж обладал правом на развод, для чего имелось семь традиционных поводов: бесплодие жены, ее распутство, ревность, непослушание, болтливость и проч. Муж также имел право взять себе наложницу, которая, впрочем, не считалась законной женой и могла быть в любое время удалена из дома. Теперь уже не покажется удивительным тот факт, что классическая китайская литература обходит молчанием любовное чувство, любовное томление и даже легкий любовный флирт. Тем более нет в ней места для любовной страсти. В народных песнях любовь девушки неизменно окрашена в тона безнадежной грусти и тоски. В старинных китайских новеллах и пьесах любовная интрига обычно имеет трагическую развязку. Бывает, впрочем, что история любви имеет счастливый конец, но так получается лишь благодаря случайному стечению обстоятельств или чуду.
Нежелание признавать женское в женщине распространялось даже на классические представления о женской красоте. В древности женская одежда и даже обувь по своему виду практически не отличалась от мужской, да и впоследствии женщины Китая носили, подобно мужчинам, широкие в поясе штаны или длинные халаты, скрадывавшие фигуру. Тело женщины и в особенности собственно женские его формы полагалось всячески укрывать от постороннего взора, вплоть до того, что девушкам нередко бинтовали грудь. Если европейский поэт мог увидеть в морской пене призрак прекрасной богини, то китайский поэт, напротив, скорее увидел бы в складках одеяний богини Гуаньинь гребешки морских волн. Он охотно сравнивал кожу красавицы с благородной яшмой, брови — с «очертаниями далеких гор», блеск ее глаз — с сиянием солнца и луны, сложную прическу—с резвящимся драконом и т.п., но ему и в голову не приходило восторгаться ее обнаженным телом и тем более описывать любовное влечение. Китайская живопись, как известно, вообще не знает обнаженной натуры. Ни один китаец не мог вообразить себе красавицы без полного набора декоративных атрибутов, вводивших ее в поле церемонно-вежливых отношений: помады на губах, пудры и румян на лице, украшений, аромата благовоний. Кажется, что китайцев интересует не тело само по себе, а декорум тела, некий внетелесный образ, момент метаморфозы физического тела. Эротизм в Китае всегда предстает в некоем рафинированном, очищенном от страсти виде, и классический мотив китайского эроса — встреча поэта с прекрасной небожительницей, «яшмовой девой», чуждой всего плотского.
Конечно, идеал женской красоты не оставался неизменным на протяжении веков. Например, в эпоху раннего Средневековья китайские нравы испытали влияние кочевых народов, где женщина традиционно пользовалась гораздо большими правами, чем в Китае. На изображениях танской эпохи мы видим статных, даже полных женщин, которым не чужды скачки, охота, пикники и прочие веселые забавы. Эти амазонки нередко даже одеты в мужские костюмы. Напротив, со времен правления сунской династии утвердилась мода на женщин субтильных и манерных. Среди женских прелестей предпочтение стали отдавать такому шедевру декоративной искусственности, как миниатюрная ступня — «цветочек лотоса» — длиной в три цуня (то есть около 10 см). Хорошим украшением к ней были изящные туфельки на высоком каблуке и чулки — чаще всего такого же цвета, как туфли, или белые. Красавица в старом Китае должна была обладать хрупким сложением, тонкими длинными пальцами и мягкими ладошками, нежной кожей и бледным личиком с высоким лбом, маленькими ушами, тонкими бровями над узкими глазами и маленьким округлым ротиком. Дамы из хороших семей сбривали часть волос на лбу, чтобы удлинить овал лица, и добивались идеального очертания губ, накладывая на них помаду кружком. Свои волосы с помощью шпилек и заколок они укладывали в сложную волнистую прическу; широко употреблялись и парики. Знатоки уподобляли женские прически благородным цветам или даже «дракону, резвящемуся в облаках». Верхом парикмахерского искусства считалось умение соединить в прическе элементы «облака» и «дракона» таким образом, чтобы присутствие «дракона», скрытого «облаками», только угадывалось. Считалось изысканным, если щеки женщины покрывали пудра и румяна, а губы были выкрашены помадой цвета «спелой вишни». Китайские прелестницы носили в волосах цветы, украшали себя серьгами, декоративными шпильками и гребенками, кольцами и браслетами, а на шее носили золотой обруч с замочком, слывший талисманом «долгой жизни». Они пользовались цветочной водой и ароматным мылом, и, подолгу сидя возле курильницы, пропитывали свою одежду запахом дорогих благовоний. Этикет предписывал, чтобы лицо женщины всегда было бесстрастным, а движения — сдержанными и плавными. Смеяться на людях, обнажая свои зубы, было признаком крайне дурного воспитания (девушки в Китае еще и сегодня закрывают рот ладонью, когда смеются). Покидая внутреннюю половину дома, женщина должна была закрывать лицо рукавом или вуалью.
Здравый смысл китайцев и их приверженность к вежливым манерам не позволили им превратиться в женоненавистников. Домашнее воспитание девочек, помимо обучения шитью и другим женским ремеслам, традиционно включало в себя и уроки грамоты, что давало девушкам доступ к «знанию ритуала». В историю китайской литературы вписаны имена нескольких превосходных поэтесс (наибольшей известностью среди них пользуется поэтесса сунского времени Ли Цинчжао, которая была, кстати сказать, замужней женщиной). Гравюры, лубочные картинки и керамические статуэтки, имевшие хождение в народе, часто представляют образы женщин, уверенных в себе и сознающих свою женственность: они лежат в непринужденной позе, весело улыбаются, танцуют или оживленно беседуют. Более того, в даосской традиции высшая реальность именуется «матерью Неба и Земли», Сокровенной Женщиной, а мудрец-даос уподобляется младенцу в материнской утробе, который «не похож на других тем, что питается от матери». Целью же совершенствования даоса считалось обретение в себе женского начала.Что же касается конфуцианских моралистов, то они не уставали повторять, что женщины — существа инфантильные, легкомысленные, коварные, злопамятные и что «добродетель женщины — в отсутствии талантов». Этот миф мужского превосходства, насаждавшийся конфуцианизированными верхами, но в целом чуждый крестьянской среде, был реакцией на разложение патриархального уклада в условиях городского быта. За культом женского целомудрия и забинтованных ножек угадывается стремление искусственно стеснить свободу женщины, лишить ее доступа к публичной жизни городов с ее вольностями и соблазнами романтической любви.
Таким образом, не найдя счастья в семейной жизни, мужчина в Китае — разумеется, если ему позволяли средства, — мог искать вдохновения в женском обществе и даже привести в дом новую жену. Что же касается женщины, то ей оставалось покоряться мифу мужского превосходства, жертвуя своей самостоятельностью, но получая возможность добиваться своих целей окольными путями. Как объект мужского желания, женщина выступала и символом мужского могущества. Ее главным достоинством провозглашалось «очарование» — магическая сила женской красоты, скрытая под оболочкой покорности. Если в фольклоре мужчина и женщина выступают как родовые типы, то женское «обаяние» — вещь индивидуальная. Секрет женского обаяния, отмечал Ли Юй, состоит в том, чтобы «сделать старое молодым, уродливое — прекрасным, привычное — изумительным». Обозначалось оно термином юнь, выражавшим идею музыкального ритма. По Ли Юю, умение каждой женщины быть очаровательной «исходит от Неба». Ни одна красавица не может передать свое обаяние другой женщине, но каждая женщина может интуитивно постичь секрет личного обаяния.
Несомненно, среди верхов китайского общества женщина — это нарумяненное и напудренное, жеманное, хрупкое, эротизированное, одним словом, самоотчужденное существо — играла роль зеркального образа, «мертвого следа» мужской культивированности духа. Ее бесстрастное лицо мертво; она — тень, маска, декорация и поэтому воочию являет таинство смерти, откровение инобытия. Во всяком случае, китайские любители эротики охотно возводили любовное чувство к прозрению Великой Пустоты бытия, где жизнь таинственно смыкается со смертью.
3. Воспитание детей в старом Китае имело своей главной и даже единственной целью сохранение семьи и продолжение рода. Все жизненные правила и ценности, внушавшиеся ребенку с младенческой поры, воспитывали в нем способность беспрекословно повиноваться старшим, жить в мире с родственниками и жертвовать личными интересами ради сплоченности семьи. Такая программа воспитания подкреплялась тезисом о том, что родители и дети «составляют одно тело» и что дети должны сохранять в целости свое тело, в котором продлевается жизнь предков. Идея взаимозависимости родителей и детей подчеркивается во многих китайских поговорках, например: «Если ребенок уколет палец, матери больно», «Когда рождается ребенок, мать в опасности». Лучшей благодарностью сына к отцу, особенно покойному, считалось подражание его образу жизни вплоть до личных привычек.
Первые два-три года жизни ребенок и в самом деле воспринимался в семье почти как физическое продолжение родительского — в первую очередь материнского — тела: он ел и спал вместе с родителями и даже, привязанный к материнской спине, повсюду сопровождал их и в труде, и на отдыхе. Грудного младенца мать обычно кормила, как только он начинал плакать, причем кормление ребенка грудью продолжалось очень долго — обычно до трех-четырех и даже более лет. Впрочем, подобный «интенсивно семейный» тип воспитания в младенческом возрасте уже не характерен для городов в КНР, где большинство детей попадают в ясли и лишаются родительской заботы уже в трехмесячном возрасте.
В то же время уже с самого раннего возраста дети начинали ощущать различные ограничения и запреты. Их пеленали, на них надевали одежду, стеснявшую движения. Поскольку пол в доме считается нечистой поверхностью, ребенку запрещали ползать по полу и заставляли сидеть в своем стульчике. Китайские родители, вообще говоря, немногословны в общении с детьми, что соответствует приоритету интимной и символической коммуникации в китайском идеале ритуального поведения. (Аналогичным образом китайские учителя боевых искусств или врачи на первых порах почти ничего не объясняли ученикам, а только показывали, что нужно делать.) Образцовой матерью считалась жена основоположника чжоуской династии, которая начала воспитывать своего сына еще в утробе — разумеется, посредством безмолвного внушения. Детей даже не обучали исполнению семейных ритуалов: младшие просто подражали действиям старших. Родители контролировали свое малолетнее потомство главным образом чисто физически или посредством символических жестов — приблизительно так, как делал один конфуцианский ученый древности, который, по словам его биографа, «когда кто-нибудь в семье поступал дурно, снимал шапку (в Китае снять шапку на людях означало признать свою вину. — Я М ), а жена и дети не осмеливались подойти к нему до тех пор, пока он не надевал шапку вновь». Нередко отец воспитывал сына посредством односложных команд: «Сиди!», «Не двигайся!» и т.п. Еще и в наши дни бывают случаи, когда излишне резвых детей родители привязывают к столу или стулу.
Дисциплинирующее воздействие старших резко усиливалось с началом учебы, что в старом Китае нередко случалось уже на третьем году жизни ребенка. Шалости на занятиях пресекались самым решительным, порой жестоким образом. Порка нерадивых учеников и вообще битье детей в семье были в порядке вещей. Существовал даже обычай, по которому ученик, придя впервые в школу, преподносил учителю завернутую в красную подарочную бумагу палку. В КНР обучение детей начинается в возрасте полутора лет, когда дети попадают в детский сад. Там они ежедневно по нескольку часов обучаются письму, счету, пению и рисованию. Нерадивость в учебе строго наказывается. Учитывая традиционно высокий престиж образования, острейшее соперничество за привлекательные рабочие места и важность сохранения «лица» семьи, борьба за дисциплину в китайском детском саду или школе никогда не кажется чрезмерной даже родителям учеников. Наиболее распространенной (и действенной) мерой воздействия в китайской школе является отстранение провинившегося от какой-либо совместной деятельности учащихся и публичное осуждение. Применявшиеся ранее в КНР методы проработки «несознательных элементов» с публичным покаянием последних представляют в утрированном виде вполне традиционные для Китая методы воспитания. Но независимо от политической подоплеки китайская система воспитания нацелена на подчинение индивида интересам коллектива, будь то семья, производственная бригада или даже государство.
Внутри семьи воспитание означало осознание каждым ребенком своего места в семейной иерархии и усвоение соответствовавших этому месту ролей. Покорность старшим и личная скромность всячески поощрялась. Если между детьми вспыхивал конфликт, то родители обычно требовали уступки от старшего. Почтительность к родителям т забота о них считалось началом всех добродетелей, что сделало невозможным публичное выражение чувства между мужем и женой. Со временем в Китае сложился особый цикл образцовых примеров сыновей почтительности. Семейные ритуалы подтверждали родовую иерархию.
Вполне естественно, что воспитание было главным образом нацелено на подавление тех факторов, которые представляли угрозу для установленного уклада жизни. Китайские нравы не допускали не только неповиновения старшим в семье, но и любые формы агрессивного поведения детей, угрожавшего разрушить мир и согласия в обществе.
Если сосед некоего мальчика приходил с жалобой к отцу, последний обычно подвергал своего отпрыска физическому наказанию, не вникая в обстоятельство дела. Хвалить своих детей и порицать других считалось верхом неприличия. Общеизвестна нелюбовь китайцев к подвижным видам спорта и публичной демонстрации своей силы или способностей.
Другим важным аспектом китайского воспитания было подавление сексуальных импульсов в подростках, да и в более зрелом возрасте. Мотивы были, преимущественно, социальными, ибо открытое проявление сексуальности провоцирует конфликты в обществе. Обнаженность считалась непозволительной даже для детей, девочки с шести-восьми лет отделялись от мальчиков. Девочки традиционно воспитывались в духе покорности братьям и будущему мужу, их кругозор и жизненные интересы должны были ограничиваться семейным бытом. Уже в детстве девочки приходилось ждать, пока братья вдоволь наиграются новой игрушкой, прежде чем она сама могла поиграть ею.
4. Традиционный образ китайского общества в представлении самих китайцев — это «гора песка», где каждая песчинка соответствует отдельной семье. Нормы китайской морали больше годились для тех ситуаций, когда не требовалось «спасать лицо», — для узкого круга родных, друзей, товарищей по школе или ремеслу. В таком кругу, где многое, если не все, делалось и понималось без лишних слов, нормативность поступков не вступала в конфликт с искренностью.
Главный вопрос этики «лица» — вопрос искренности маски, доверия к этикету. И чем публичнее была маска, тем острее ощущалась потребность иметь к ней доверие. В таких условиях едва ли не единственным и, как правило, самым действенным способом расширения своего влияния в обществе была дружба, создававшая сеть личных связей (гуанъси). Дружба стояла на последнем месте в ряду отношений, признаваемых китайской моралью, и только она давала возможность выйти за пределы семейно-клановой иерархии. Тем не менее, даже отношения дружбы в Китае не предполагали равенства сторон. По крайней мере, из двух друзей один должен быть старшим, и это давало ему повод покровительствовать младшему товарищу и давать ему советы во всех делах, вплоть до выбора невесты. Отказ следовать рекомендациям старшего друга грозил разрывом отношений. Само общение друзей было до предела формализованным и составляло благоприятную почву для демонстрации знаменитых «китайских церемоний», всех этих взаимных поклонов, расшаркиваний, комплиментов Разумеется, отношения дружбы предполагали обмен подарками, причем хозяину полагалось возвратить гостю часть даров, сославшись на чрезмерную щедрость посетителя. Друзьям и сослуживцам следовало также «засвидетельствовать свое почтение» в дни больших праздников, оставив свою карточку у дома друга или начальника. В этом пункте дружба уже смыкалась с сетью связей-гуанъси, не предполагавших подлинно дружеских отношений. Гуанъси представляли и до сих пор представляют собой, особенно в КНР, важный коррелят отношений в публичной сфере. Новейшие социологические исследования, проведенные в Шанхае и его окрестностях, показывают, что и в наши дни почти половина китайцев считают связи «очень важными» и лишь 2,5 % опрошенных полагают, что связи не имеют значения. Такие связи возникают спонтанно, по потребностям и инициативе того или иного лица, и могут быстро прерваться. Почвой для процветания гуанъси служат неразвитость гражданского общества, острая социальная конкуренция и дефицит услуг. Кроме того, в чрезмерно бюрократизированном обществе Китая гуанъси способны восполнить нехватку личного доверия в отношениях между официальными лицами. Именно связи превращают китайский социум в инертное и аморфное «одно тело», способное погасить, свести на нет любое вмешательство государства в общественную жизнь. Но в широком смысле гуанъси предстают естественным способом бытования китайской личности, которая может заявить о себе, обосновать себя лишь в соотнесенности с другими лицами.
Список литературы:
1.Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000.
2. Сидихметов В.Я. Китай: страницы прошлого. М., 1987.
3. Стариков В.С. Материальная культура китайцев северо-восточных провинций КНР. М., 1967.
Вопросы для самоконтроля:
1.Охарактеризуйте положение китайской женщины в средневековом Китае, можно ли сказать, что женщина в Китае была более защищена социально, нежели женщина в средневековой Европе?
2.Дайте определение термину «гуаньси».
Дата добавления: 2020-03-17; просмотров: 796;