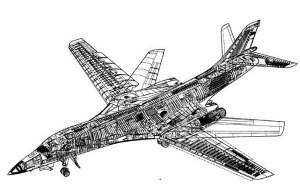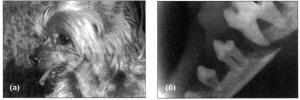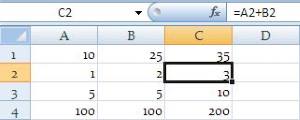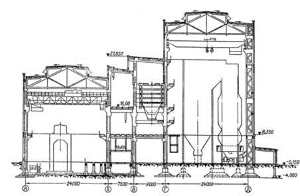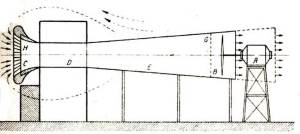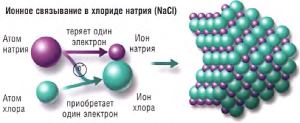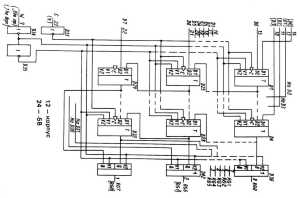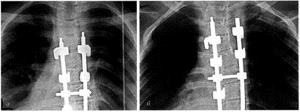Хеттская и хурритская литературы 37 глава
Около 190 г. до н. э. в Палестине (и притом, скорее всего, в Иерусалиме) жил ученый книжник, страстный любитель благочестивых игр слова и мысли, почитатель древних мудрецов, к которому уместно приложить его же собственные слова: «Он будет искать мудрость всех древних и поучаться в пророчествах; он будет вникать со вниманием в рассказы о мужах именитых и следить за тонкими извитиями притчей; он будет
298
испытывать сокровенный смысл притчей и прилежать к загадкам притчей». Книжника этого звали Иешуа бен-Элеазар бен-Сира; будучи усердным читателем книг, он решился и сам написать книгу — сборник сентенций и афоризмов («Книга премудрости Иисуса сына Сирахова»). В 132 г. до н. э. его внук приехал в Египет, где нашел, что местные евреи недостаточно культивируют традиции отечественной премудрости; им в назидание он перевел сочинение бен-Сиры на греческий язык. «Много бессонного труда положил я в то время, чтобы довести книгу до конца и выпустить ее в свет для тех, которые на чужбине желают учиться и подготавливают свои нравы к тому, чтобы жить сообразно Закону», — замечает переводчик в своем предисловии к греческому тексту. Вплоть до 1896 г. только греческий текст и был известен науке; затем значительная часть еврейского оригинала была найдена в Каирской генизе (хранилище обветшавших книг и рукописей из синагогального обихода), а после второй мировой войны текстология книги бен-Сиры обогатилась кумранскими находками.
Как и хахамы былых времен, создатели «Книги притчей Соломоновых», Иешуа бен-Сира — резонер, но резонер на редкость восторженный и вдохновенный. Мудрость здравого смысла, мудрость школьных прописей для него и расцветает, как роза Иерихона, и благоухает, как ладан в Скинии, и тает во рту слаще медового сота, и светит, как утренняя заря (весь этот ряд пышных восточных сравнений взят из 24-й главы книги бен-Сиры). Как это возможно? Почему будничность назидательного урока может стать предметом переживаний, заставляющих вспомнить о платоновском Эросе? Бен-Сира сравнивает назидания здравого смысла с хлебом и водой («Мудрость примет его к себе, как целомудренная супруга; напитает его хлебом разума и водою мудрости напоит его», — 15, 2—3); но разве от хлеба и воды пьянеют? Вникнуть в этот парадокс трудно, но если мы в него не вникнем, для нас останется эстетически закрытым весь огромный мир ближневосточной дидактики от Птаххотепа до поэтов исламской эпохи включительно (еще у великого Низами немало самых настоящих школьных прописей). Мудрость бен-Сиры «буднична», но его отношение к ней празднично. Этот книжник очень привержен к эстетике праздника и условная красота ритуала и церемониала означает для него очень много. Обостренный вкус к парадности сакрального действа — один из ключей к пониманию поэтики его афоризмов. Когда он говорит о благолепии торжественного выхода первосвященника, он сравнивает это благолепие с красотой полной луны; но точно такое же сравнение он прилагает и к своему собственному «торжественному выходу» перед читателем («я полон, как луна в полноте своей» — 39, 15), ибо он и должен чувствовать себя собратом священнодействующей сакральной особы; когда он умствует и поучает, он тоже священнодействует и творит некий словесный обряд. Здесь можно было бы сослаться на понятие «литературного этикета», разработанное Д. С. Лихачевым применительно к древнерусской литературе. Строгая трезвенность содержания и веселая парадность формы в книге бен-Сиры уравновешивают друг друга, обеспечивая соразмерность эстетического целого.
Бен-Сира — менее всего любитель «проклятых вопросов», крайних решений и бескрайних порывов; стихия героического и трагического ему чужда. Но его оптимизм — не самодовольное, расслабленное благодушие, а сосредоточенная бодрость, исходящая из понимания всей жизни как непрестанного усилия, как череды уроков и экзаменов. Искус труден — иначе он не был бы искусом; но его можно и должно с победой выдержать. «Сын мой! — обращается бен-Сира к своему читателю, — если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к испытанию; управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся в час тяготы!» (2,2). Все в руках самого человека, потому что воля свободна: «Бог от начала сотворил человека и предоставил его решениям собственной воли. Стоит тебе захотеть, ты соблюдешь заповеди и сохранишь верность правому изволению. Он предложил тебе на выбор огонь и воду; чего захочешь, к тому и протяни руку. Перед человеком жизнь и смерть; чего он пожелает, то ему и будет дано» (15, 14—17). Этика бен-Сиры не «героична», но она достаточно мужественна, ибо требует от человека полной целостности воли: «Горе сердцам боязливым, и рукам ослабевшим, и грешнику, что вступает на две стези! Горе сердцу расслабленному!» (2, 12—13). Напротив, леность, уныние и безвольная распущенность вызывают у нашего моралиста физическое отвращение (ср., например, 22, 1—2), все это есть для него «глупость» — глупость, понятая не как умственный недостаток, но как надлом воли и одновременно безбожие: именно потому безбожие, что глупость, и потому глупость, что безбожие. Так и мудрость есть для него отнюдь не атрибут теоретического интеллекта, но скорее атрибут воли; она состоит не в том, чтобы решать отвлеченные умственные вопросы (прямо осуждаемые в 3, 22—24), но в том, чтобы «управить сердце свое». Хотя книга бен-Сиры принадлежит эллинистической эпохе, мы, читая ее, очень далеки от Эллады. Содержание этой книги держится в пределах житейского
299
и жизненного здравомыслия; мы можем назвать его «ограниченным», но обидное это словечко едва ли будет обидным для бен-Сиры, ибо в его мире «ограниченность» — ясная граница между посильным и непосильным, между необходимым и тем, что сверх нужды, — есть успокоительная гарантия того, что задачи человека можно сообразовать с его наличными силами. «Через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай» (3, 21). Если мы представим себе простого человека, юридически свободного и не вовсе неимущего, но далекого от власти, который поставлен в условия политической несвободы, господствующей на эллинистическом Востоке, и потому знает, как мало от него зависит, но все же хотел бы прожить жизнь по-божески и по-человечески; который отнюдь не рвется спорить с сильными мира сего, но и не намерен позволять им залезать в его душу; который больше всего желал бы проводить дни свои тихо и мирно, но не смеет зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы; если мы дадим себе труд увидеть этот социально-нравственный тип, мы поймем, что у сентенциозной книги нашего автора было надолго обеспеченное «место в жизни».
Бен-Сира призывает уступать, когда можно, властным и богатым, хотя он знает, что есть ситуации, когда уступать нельзя («спасай обижаемого из рук обижающего и не будь малодушен, когда судишь» — 4, 9); как бы то ни было, не следует иметь с держателями власти и богатства ничего общего, не надо полагаться на их милость. «Не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя, — увещевает Иешуа. — Если ты выгоден для него, он использует тебя; а если обеднеешь, он оставит тебя... Своими угощениями он будет срамить тебя, покуда не ограбит тебя дважды или трижды и под конец не насмеется над тобою. После того он увидит тебя и уклонится от встречи с тобою, и покачает головой тебе в обиду. Смотри, чтобы не обмануться и не быть униженным в весельи твоем. Когда властный будет тебя приглашать, уклоняйся...» (13, 2; 4, 8—12). Когда бен-Сира говорит о вражде между богатыми и бедными, легко почувствовать, что его собственное место не между богатыми. «Какое общение у волка с ягненком? Так и у грешника с благочестивым. Какой мир у гиены с собакою? И какой мир у богатого с бедным? Пища для львов — онагры в пустыне; так и для богатых корм — бедные. Отвратительно для надменного смирение; так отвратителен для богатого бедный... Когда случится несчастье с богатым, много у него помощников; скажет некстати, и для него найдут извинение. Случится несчастье с бедняком, и его же бранят; скажет разумно, и его не слушают. Заговорил богатый — все смолкают и превозносят его речи до облаков; заговорил бедный — и спрашивают: „это еще кто такой?“» (13, 21—24, 26—29). По всему чувствуется, что положение бедняка близко сердцу автора, куда ближе, чем положение богача.
Положение бедняка, но не положение раба; ибо бен-Сира принадлежит к миру рабовладельцев и обращает свою проповедь к рабовладельцам. Именно ему принадлежит совет держать раба в строгости, на который ссылался М. Лютер в пору крестьянских войн. Правда, совет этот (33, 25—29, ср. 42, 5) выглядит несколько иначе в контексте всей книги; точно в таких же выражениях, если не более энергично, наш автор рекомендует не давать поблажки сыну (30, 1—13) и легкомысленной дочери (26, 1), но также и своей собственной душе, своему «я». («Кто приставит к помыслам моим бичи, и к сердцу моему назидание мудрости, дабы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям моим?» — 23, 2). Вспомним, что для бен-Сиры весь мир — огромная школа, и человек имеет все основания пожелать себе, чтобы его как следует «школили» в этой школе; но школу во времена бен-Сиры никто не мыслил себе без розги. Поэтому жесткость, предписанная палестинским моралистом по отношению к рабу и ребенку, все же имеет больше общего с патриархальной истовостью «Домостроя», чем с бездушным практицизмом такого теоретика рабовладения, как Катон Старший, римский современник бен-Сиры.
Наш автор уважает труд и глубоко презирает праздность; но он не был бы тем, что он есть, — книжником, до краев переполненным своей книжной премудростью, — если бы телесный труд был для него равен умственному. Высшее назначение человека он видит в том, чтобы непрерывно и неустанно, с младенчества и до смерти воспитывать и совершенствовать свой ум, не теряя ни минуты; а земледелец или ремесленник имеют для этого слишком мало возможностей. Поэтому для бен-Сиры почтеннее всего профессии книжника и врача, эти древнейшие виды «интеллигентской» специализации. Таким образом, этот автор, вполне чуждый высокомерию властных и богатых, не совсем чужд гордыне духовного аристократизма. С этим хорошо согласуется его повышенное внимание к внешнему благородству поведения: «Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется» (21, 23). Таких афоризмов у бен-Сиры немало.
300
АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В заключительную эпоху древнееврейской литературы самым популярным жанром становится жанр «откровения» о тайнах потусторонних миров и конца истории. Сочинения в этом жанре принято называть «апокалипсисами», а их авторов — «апокалиптиками» (от греч. apokalipsis — «откровение»). Апокалиптики продолжили древнюю традицию пророков, заимствовали у пророческой литературы ее идеи и язык, но существенно модифицировали самое главное — тему, смысл и духовную атмосферу. Тема пророков — история и вмешательство в нее Яхве, вмешательство чудесное, но не разрушающее самое историю. Тема апокалиптиков — взрыв истории и ее переход в эсхатологию, последнее сражение добра и зла и «тот свет». Теперь евреи непрерывно стояли лицом к лицу с насилием эллинистической, а затем римской государственности — с насилием, которое было более тонким, но также более всеобъемлющим и более чужим, чем грубое насилие ассирийцев или вавилонян. В этой атмосфере древняя идея «войны Яхве» против врагов своего народа обретает абсолютизированный облик последней и решающей брани «сынов света» и «сынов тьмы». Когда пророки говорили о народах и государствах, для них еще существовал пестрый человеческий мир с его красками, теперь красок не осталось — только ослепительный свет и кромешный мрак. Это объясняют влиянием исконного иранского дуализма; такое влияние — несомненный факт, но само оно стало возможным лишь постольку, поскольку общественная и духовная жизнь сделала его необходимым.
Тема и смысл апокалиптической литературы предопределяют духовную атмосферу ее сочинений; эта атмосфера характеризуется парадоксальным сочетанием двух крайностей — предельной экзальтации и предельной рассудочности. С одной стороны, откровение о сокровеннейших тайнах иного мира и будущего века предполагает такую напряженность интонации, такую непривычность образов, которые должны превысить все, что было до сих пор в древнееврейской литературе. С другой стороны, апокалиптикам очень трудно и очень страшно представить получателями откровения лично себя; для их совести несравненно легче взять на себя роль позднего хранителя тайных пророческих преданий, размышляющего над древним пророчеством, вычисляющего сроки его исполнения и выводящего все новые следствия из него. Отсюда книжный и потому головной характер апокалиптической литературы, роднящий ее уже не с традицией пророков, но с традицией «хахамов»; отсюда же влечение апокалиптиков к анонимности и псевдонимности. Когда-то пророк выступал со своим пророчеством всенародно, гласно и открыто, во имя и от имени Яхве, но от своего собственного лица и на свою собственную ответственность; то, что он записывал, он сначала проповедовал изустно, стоя среди своих современников и опознаваемый ими в лицо. Когда он говорил о будущем времени, он имел в виду действительно будущее. Напротив, апокалиптик предпочитает скрывать себя самого за условными именами таинственной древности и оставаться безличным орудием предания. Это не совсем та псевдонимность, с которой мы имели дело в «Книге притчей Соломоновых», в «Песни песней», в поздних частях «Книги пророка Исаии»; по крайней мере и Соломон, и Исаия сами по себе были вполне историческими личностями, и сама их связь со ссылавшейся на них литературной традицией была историческим фактом, то более (как в «Книге пророка Исаии»), то менее (как в «Соломоновых» книгах) реальным. Но другое дело, когда писатель-апокалиптик излагает свое учение устами какого-нибудь персонажа доисторических, домоисеевых времен — например, устами Адама и Евы, или Еноха, или двенадцати сыновей Иакова, — при этом «пророчествуя» о давно прошедших событиях и пересказывая библейские сказания и хроники в форме будущего времени.
Так ведут себя апокалиптики позднего иудейства, и так будут себя вести по их примеру гностики раннего христианства. Те и другие были непрочь поразить воображение читателя; к тому же мнимая «изначальность» их откровения, по-видимому, должна была компенсировать его эпигонский характер (ибо апокалиптики были в какой-то мере эпигонами по отношению к пророкам, а гностики — по отношению к новозаветным авторам).
И все же это не просто мистификация. По очень серьезным и содержательным причинам апокалиптическому автору нужна для осмысления истории воображаемая наблюдательная позиция вне истории. Эту позицию удобно локализовать либо в самом начале истории, либо в самом ее конце, но к концу — прикован умственный взор апокалиптика, а в начале — он помещает своего персонажа, хотя бы того же Еноха. Глазами этого своего персонажа он видит прошедшее и настоящее как будущее, одновременно притязая на то, чтобы знать будущее с той же непреложностью, с которой знает прошедшее и настоящее. Различие между прошедшим, настоящим и будущим в принципе снято, и через это снята сама история; она предстает в мистических числовых схемах и мистических аллегориях, как нечто предопределенное и постольку
301
данное готовым. Апокалиптика — это мистика абсолютизированной, и потому абстрактной, и потому снятой истории. Апокалиптик очень остро чувствует историю как боль, которую нужно утолить, как недуг, который нужно вылечить, как вину, которую нужно искупить. Он скорее ненавидит историю, чем любит ее; столь характерный для древнееврейской культуры мистический историзм в момент своей кульминации обращается в свою противоположность. Поэтому для апокалиптика так важна идея абсолютного конца, когда все движущееся остановится, все открытое замкнется, все нерешенное будет решено и все спорящие стороны услышат свой вечный приговор.
Первое и самое значительное произведение иудейской апокалиптики — «Книга пророка Даниила»; только оно одно представляет апокалиптику в библейском каноне, найдя себе место среди книг пророков. Изложенные в этой книге видения и события прикреплены к периоду между 605 г. и 30-ми годами VI в. до н. э. Однако в действительности книга получила свой облик между 167 и 163 гг. до н. э., т. е. в эпоху Маккавейских войн; это не исключает использования в книге гораздо более древнего материала. Часть книги (с начала до 4-й гл. и затем с гл. 8-й до конца) написана по-древнееврейски, другая часть (от 2, 4б до конца 7-й) — по-арамейски. Книгу открывает рассказ о жизни Даниила вместе с тремя молодыми евреями при дворе Навуходоносора, затем при дворе Дария I; все четверо являют собой образец для иудейских страдальцев за веру во времена Антиоха IV Эпифана, во имя верности Яхве отказываясь подчиниться вавилонскому культу кумира (за что три отрока брошены в раскаленную печь) и персидскому культу царя (за что Даниил брошен в яму к львам); чудо спасает от смерти и отроков, и Даниила. Здесь же рассказывается о каре, постигшей Навуходоносора, который лишился ума и жил, как зверь (как выяснилось благодаря новейшим находкам, это весьма древний мотив, первоначально относившийся к другому вавилонскому царю — Набониду), а также о знаменитом видении Валтасара, на века ставшем символом обреченности тиранов. Собственно апокалиптические видения идут с главы 7-й; мировая история представлена в них, как грызня за власть четырех зверей, сменяющих друг друга. Наконец, приговор бога кладет конец владычеству зверей (т. е. четырех мировых держав — вавилонской, мидийской, персидской и македонской). «Видел я, наконец, что поставлены престолы и воссел Предвечный; одежда на нем бела, как снег, и власы на главе Его, как чистая волна; престол Его — блистание огня, колеса Его — пылающий огонь. Огненная река истекала и разливалась пред Ним; тысячи тысяч служили Ему, и мириады мириад предстояли Ему; суд воссел и раскрыты были книги [...] Затем видел я в ночных видениях: се в облаках небесных шел как бы Сын Человеческий, пришел к Предвечному и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не кончится, и царство Его не прекратится» (7, 9—14). Образность и фразеология этого места оказали огромное влияние на раннее христианство (достаточно вспомнить, что в евангелиях Иисус Христос чаще всего называет себя «Сын Человеческий»).
В драматическую пору I в. до н. э. — II в. н. э. апокалиптическая литература становится чрезвычайно популярной. Утешая народ во времена унижений и поддерживая в нем напряженное ожидание великой победы в будущем (вылившееся в три иудейские восстания), она одновременно по-своему удовлетворяла народную любознательность, предлагая настоящую энциклопедию фантастической космологии, астрономии и физики (такова, например, «Книга Еноха»). Именно через апокалиптику ближневосточный образ мира вошел в христианские апокрифы и надолго определил фольклорные представления коптов, эфиопов, греков, южных и восточных славян. Но главная тема апокалиптических сочинений — не тайны настоящего мира, а тайны будущего мира: «Быстро век сей спешит к исходу своему, и не может он вместить того, что обещано праведным в будущие времена», — как говорит апокалиптический апокриф «III Книга Ездры».
Очень яркие образцы апокалиптики находятся среди сектантских (по-видимому, ессейских) текстов, обнаруженных в 1947 г. в пещерах у Мертвого моря (в местности Вади-Кумран). Чрезвычайно характерно, что один из этих текстов специально посвящен детализированному изображению войны «сынов света» с «сынами тьмы»; разумеется, ход этой войны заранее известен — три раза победят «сыны света», три раза одолеют «сыны тьмы», и лишь седьмое сражение даст окончательную победу «сынам света». «В руки бедняков предашь Ты врагов всех стран, — обращается автор к Яхве, — в руки склоненных к земле, дабы унизить могущественных среди народов».
В другом апокалиптическом тексте из Кумрана говорится: «И вот вам знамение того, что это произойдет: когда чрево, порождающее беззаконие, будет заперто, нечестие отдалится от лица праведности, как тьма отступает перед светом; и как рассеивается дым и нет его больше, так исчезнет нечестие навеки, а праведность
302
откроется как солнце — установленный порядок мира; и всех придерживающихся тайн нечестия не станет больше. Тогда знание заполнит мир и никогда не будет в нем больше безрассудства. Уготовано слову сбыться, и истинно пророчество; и отсюда да будет вам известно, что оно — неотвратимо. Разве не все народы ненавидят кривду? И тем не менее она среди них всех водится. Разве не из уст всех народов раздается голос истины? Но есть ли уста и язык, придерживающиеся ее? Какой народ желает, чтобы его угнетал более сильный, чем он? Кто желает, чтобы его достояние было нечестиво разграблено? А какой народ не угнетает своего соседа? Где народ, который не грабил бы богатства другого?» («Книга Тайн», 5—11, пер. И. Д. Амусина). Вопрос поставлен для всего мира, для всего человечества: социальная практика нигде не соответствует нравственному идеалу, но она должна быть приведена в соответствие с ним — и притом повсюду. Такие кумранские тексты — связующее звено между призывами ветхозаветных пророков, требовавших, чтобы вера пересоздала отношения между людьми, и всеми будущими религиозными утопиями христианства и ислама. Но кумранская идеология продолжает страдать от коренного противоречия между всечеловеческим пафосом и узкой религиозно-этнической исключительностью, которое проходит через всю древнееврейскую литературу и сказывается у кумранитов особенно остро, поскольку к желанию отгородиться от «язычников» у них добавляется желание отгородиться от недостаточно «чистых» представителей своего же народа. Только христианство и затем ислам, идя различными путями, сумели в принципе преодолеть это противоречие. Благодаря этим двум мировым религиям идеи, созревшие в лоне древнееврейской литературы, а вместе с ними ветхозаветные сюжеты и персонажи, стали достоянием широкого круга национальных культур. Особенно широко было их влияние там, где господствовало христианство, ибо если люди исламской культуры читали о Ибрахиме (Аврааме) и Мусе (Моисее), Айюбе (Иове) и Йусуфе (Иосифе), Дауде (Давиде) и Сулеймане (Соломоне) в Коране и других текстах своей собственной традиции, свободно обращавшихся с библейским материалом, христиане удержали Ветхий Завет в каноне «Писания» и продолжали обращаться к нему самому. Запретный плод и каинова печать, вавилонское столпотворение и всемирный потоп, тьма египетская и манна небесная — это не только компоненты культурной традиции, определившие тематику бесчисленных произведений литературы и искусства, это ходячие обороты речи, понятные каждому и употребляемые уже вне обязательной связи со своим религиозным контекстом. Так образность древней литературы продолжает жить на уровне пословицы и поговорки.
Литература европейской античности
303
ВВЕДЕНИЕ
Античная литература — это литература средиземноморского культурного круга эпохи рабовладельческой формации: это литература Древней Греции и Рима с X—IX вв. до н. э. по IV—V вв. н. э. Она занимает свое место в кругу других литератур рабовладельческой эпохи — ближневосточных, индийской, китайской. Однако историческая связь античной культуры с культурами Новой Европы дает ей в этом цикле литератур особое положение.
Несмотря на то что в истории европейской литературы не было такой непрерывной культурной традиции, как, скажем, в истории китайской литературы, ибо в IV—V вв. н. э. распространение христианства перестраивает всю структуру европейской культуры, а переселения народов выдвигают новые народы и новые языки, которые в Средние века стали основой национальных литератур, существующих до наших дней, историческая преемственность античной и новоевропейских культур всегда оставалась ощутимой, и античная литература всегда представлялась истоком и часто образцом новых литератур. Каждая новая общественная формация в пору своего расцвета обращалась в поисках духовного родства к тем или иным сторонам античной литературы времен расцвета. Такие периодические обращения к античности иногда называют «возрождениями классической древности». Эпоха феодализма обращалась к античности по крайней мере дважды: в период «каролингского возрождения» IX в. и «возрождения XII в.»; буржуазная эпоха знала тоже два таких «возрождения» — в XIV—XVI вв. и в конце XVIII в. Разумеется, историческое содержание этих великих эпох отнюдь не сводится к «возрождению классической древности»; но несомненно, что роль такого обращения к античности в эти эпохи и в сознании этих эпох была особенно важна. Так античность выступала духовной опорой европейской культуры в решающие и поворотные моменты ее развития.
Мы не будем останавливаться на огромном вкладе античности в другие области европейской культуры — политику, право, науку, искусство; напомним лишь о ее вкладе в области литературной. Традиция изучения древних языков и древних литератур неизменно лежала и лежит в основе гуманитарного образования в Европе, по крайней мере, со времени Возрождения. Основные концепции литературы и литературного творчества, господствовавшие в Европе до Канта, а часто и позже, непосредственно исходили из концепций Аристотеля и Платона. Образцами литературных достижений в течение веков считались памятники античной литературы, и сравнение с античным писателем было для Петрарки, Расина и Ломоносова высшей похвалой. Система жанров европейской литературы с ее четким расчленением эпоса, лирики и драмы, с ее выделением оды, элегии и песни в лирике, трагедии и комедии в драме непосредственно развивалась из системы жанров античной литературы. Система стилей европейской литературы с ее классификацией приемов, различением метафор, метонимий и т. д. выработана античной риторикой. Даже система языка, хотя строй новоевропейских языков сравнительно мало похож на строй языков латинского и греческого, обычно осмысляется в категориях античной грамматики. И система стиха новоевропейских литератур, весьма далекого от стиха античного, обычно осмысляется в терминах античной метрики. Только в XIX в. теория литературы отчасти эмансипировалась от античных образцов, но в школьном (гимназическом) образовании эти изменения стали ощутимы далеко не сразу.
Географические рамки античной культуры, т. е. понятие «античная литература — литература средиземноморского круга», требуют уточнения. Колыбелью античной культуры была Древняя Греция. Подпочвой греческой культуры была крито-микенская культура II тыс. до н. э., тесно связанная с культурным кругом Ближнего Востока, особенно Малой Азии и Египта. В Греции сложилась и отсюда распространялась по Средиземноморью античная культура — отчасти путем расселения самих греков по заморским колониям, отчасти путем эллинизации местного населения. Можно отметить три важнейших момента этого распространения: во-первых, эпоха колонизации (VIII—VI вв. до н. э.) — разносимая греческими поселенцами культура распространяется по всем берегам Средиземного и Черного морей, от Марселя до Кипра и от
304
Азова до Киренаики; во-вторых, эпоха эллинизма (IV—III вв. до н. э.) — по путям, открытым македонским завоеванием Персии, античная культура распространяется на Восток, достигая Индии и Средней Азии; в-третьих, эпоха римских завоеваний (II—I вв. до н. э.) — античная культура распространяется на запад до берегов Атлантического океана. Рейн и Дунай на севере, океан на западе, Сахара на юге, Иранское нагорье на востоке стали границами зоны интенсивного развития античной культуры, а за пределами этой зоны осталась еще очень широкая полоса, где влияние античной культуры ощущалось спорадически.
Носителями первой колонизационной волны, как сказано, были сами греки. Носителями второй — древние македоняне, народ, родственный грекам, находившийся под воздействием греческой культуры с самых давних времен.
Носителями третьей колонизационной волны были римляне — народ, подвергшийся греческому влиянию сравнительно поздно (в IV—III вв. до н. э.) и хранивший отчетливый комплекс самобытных культурных особенностей. Здесь греческая культура должна была вступить в синтез со своеобразной римской культурой: в разных культурных областях и на разных этапах соотношение греческого и римского элементов в этом синтезе было различным, но в области литературы и искусства греческий элемент преобладал безоговорочно. Греческим языком должен был владеть каждый образованный римлянин, греческую литературу должен был брать за образец каждый римский писатель, и мерой приближения к этому образцу измерялось его достоинство. Вообще римская культура во всем была более «открытой», чем греческая. Римские авторы не раз писали по-гречески, греки же в римской державе чуждались латинского языка, пренебрегали латинской литературой и в своем политическом подчинении утешались сознанием непререкаемого духовного превосходства. Наконец, многочисленные средиземноморские народы, прошедшие школу греческого влияния на Востоке и греко-римского влияния на Западе, тоже внесли свой вклад в античную культуру. В частности, три момента были особенно важны в истории взаимовлияния античности и Востока: влияние Востока на становление греческой культуры в VII—VI вв. до н. э.: влияние Греции на эллинизируемый Восток в III—I вв. до н. э.; и, наконец, зарождение и распространение христианской культуры на стыке античной и восточных культур в I—III в. н. э. Малая Азия, Сирия, Египет, Северная Африка, Испания, Галлия дали миру многих писателей эпохи эллинизма и римского владычества, но все эти писатели — Лукиан, Апулей, Сенека, Авсоний — пользовались греческим или латинским языком и ощущали себя представителями единой греко-римской культуры.
Исторические рамки античной культуры также требуют уточнения. За время существования античной литературы античное общество прошло в своем развитии три стадии, соответствующие трем стадиям развития рабовладельческого хозяйства.
Дата добавления: 2016-07-11; просмотров: 1467;