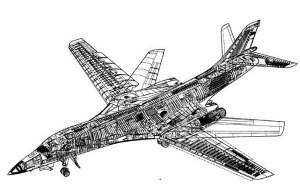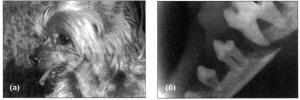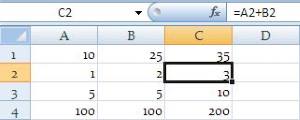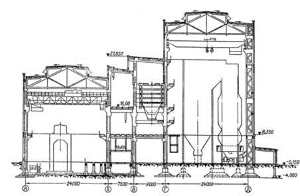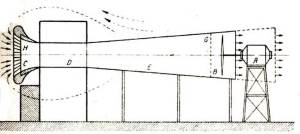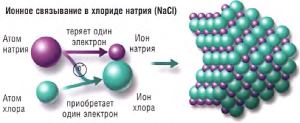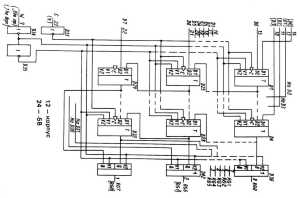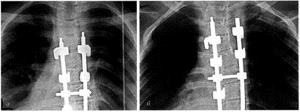Хеттская и хурритская литературы 34 глава
Поток Киссон увлек царей,
Древний поток, поток Киссон;
душа моя, попирай их мощь!
Разбивались копыта коней,
так бежали, так бежали мужи!..
(Суд., гл. 5)
278
ХРОНИКАЛЬНО-ЭПИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
Основное содержание Пятикнижия — это религиозно-юридические нормы, долженствующие регулировать жизнь человека и народа; Тора — это Закон. Во всех мифологиях мира запечатлелась общечеловеческая потребность осознать обязанности человека как обязанности внутри мирового целого; поэтому все законы людей должны быть выведены из законов мирового целого, а законы мирового целого — из начала мирового целого. Идея «начала» имеет для архаического сознания совершенно особый смысл: «начало» — не просто временная точка отсчета, но некое лоно изначальности, основание, принцип и первоначало. Оно не только было, но как бы продолжает существовать и сосуществовать с настоящим, как особый уровень бытия, на котором все «правильно», поэтому человек, желающий действовать «правильно», обязан сверяться с «началом» как с образцом. В этом коренная соотнесенность представлений о «законе» и о «начале», так что невозможно говорить о первом, не оглядываясь на второе. То «начало», в котором укореняет себя законодательство Торы, имеет двоякий облик: во-первых, начало мира, во-вторых, начало народа. Соответственно Пятикнижие открывается двумя повествовательными книгами — за «Книгой Бытия» идет «Книга Исхода».
«Книга Бытия» — традиционное русское заглавие не очень удачно передает греческое Gensis («Книга Рождения», или «Книга Становления»). Греческое заглавие, данное книге в корпусе Септуагинты, имеет для себя некоторую опору в оригинальном тексте, а именно в резюмирующих словах: «Вот рождение небес и земли при сотворении их» (2, 4). Но в иудейском обиходе книга получила название по своему первому слову, т. е. «Книга В-Начале». Ибо книга эта, стоящая «в начале» Торы, говорит о том, что было «в начале» мира, чтобы связать одно «начало» с другим и вывести одно «начало» из другого; иначе говоря, чтобы истолковать место человека среди людей как его место во Вселенной.
Итак, что же было «в начале»? «В начале сотворил Бог небо и землю. И была земля пуста и праздна, и тьма над лицом бездны, и дух Божий
279
витал над водой. И сказал Бог: „Да будет свет!“ — и был свет. И увидел Бог, что свет хорош, и отделил свет от тьмы...» (Быт., 1, 1—4). Этот зачин имеет много общих черт с вавилонскими космогоническими рассказами, но противоположен им по смыслу. Здесь в качестве творца выступает единый бог, сосредоточивающий в себе самом всю полноту творческих сил, а не патриархальный клан богов, в чреде брачных соитий зачинающий олицетворенные возможности будущего мироздания; т. е. здесь космогония впервые до конца отделена от теогонии. Богу уже не противостоит равное ему женское начало, с которым он мог бы сойтись в космогоническом браке или в космогонической битве, как вавилонский Мардук, сражающийся с Тиамат. Может быть, библейская Бездна («Техом») — это воспоминание о Тиамат, но в таком случае мы обязаны отметить радикальную демифологизацию образа. Ни единого слова о матери чудищ с разинутой пастью, какой была Тиамат, только «глубина», или «пропасть», или, может быть, «водная пучина», поверх которой лежит мрак, — образ достаточно таинственный и, если угодно, по-своему «мифологический», но в совершенно ином смысле этого термина, нежели собственно мифологическая фигура вавилонской космогонии. Важно, что в библейском рассказе о сотворении мира нет ни усилия работы, ни усилия битвы; каждая часть космоса творится свободным актом воли, выраженным в формуле — «да будет!».
Сотворение мира представлено как упорядочивающее разделение его частей, приведение его, так сказать, в членораздельный вид: «и отделил Бог свет от тьмы», «и отделил воды, которые под твердью, от вод, которые над твердью». Начало мира есть, как уже говорилось, символический прообраз закона; а в чем же сущность закона, как не в отделении должного от недолжного, дозволенного от запретного, сакрального от профанного? Бог «отделил», и потому человек должен «отделять», должен «различать», как говорится ниже в законодательном тексте Торы: «Это устав великий для поколений ваших, дабы вы умели различать между священным и мирским, и между скверной и чистым» (Лев., 10, 9—10). Едва ли случайно поэтому, что мир сотворен не каким-либо иным количеством речений Яхве, а именно десятью речениями; эти десять речений симметрично соответствуют знаменитым «десяти заповедям» (Исх., 34, 28). На десяти речениях стоит мир, на десяти речениях стоит закон. О дальнейшем повествовании «Книги Бытия» можно сказать то же самое. Такая фундаментальная принадлежность мира заповедей и устоев, как брак, обосновывается в рассказе о сотворении Евы — рассказе, непосредственно переходящем, перетекающем в заповедь: «потому оставит муж отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут они одна плоть» (2, 24). Но обоснование уже не какой-либо одной заповеди, а общего принципа заповеди, принципа запрета и табу, дано в рассказе о грехопадении Адама и Евы; идея табу, с нарушением которого связано изгнание из сакрального пространства «Сада Сладости» (Эдема) и утрата первоначальной гармонии, выставлена очень четко и для этого освобождена (в отличие от аналогичных мифов других народов) от всякой расцвечивающей детализации.
Вкушение запретного плода с древа познания добра и зла тоже полагает «начало»: с него начинается опыт добра и зла (следовательно, телесная стыдливость), с него начинается история как противоборство добра и зла (следовательно, преступление). Не только добро, но и зло, и преступление должны иметь возведенные к нормативному началу первообразы; отсюда важность фигуры первого убийцы на земле — Каина. Последний настолько великий грешник, что принадлежит непосредственно суду Яхве и составляет табу для человеческой мести; он отмечен вошедшей в поговорку «каиновой печатью».
Библейский рассказ о всемирном потопе особенно близок к циклу вавилонских сказаний, куда ближе, чем, например, рассказ о сотворении мира. Но даже здесь сходство относится к частностям, различие — к сути. В эпосе о Гильгамеше (эпизод Ут-Напиштима, месопотамского «Ноя») речь идет о потопе, устроенном богами, которые не могут сговориться между собой, во время потопа дрожат, «как псы», и после жадно слетаются на запах жертвоприношения Ут-Напиштима, «как мухи». Тема библейского повествователя — правосудный гнев единого Яхве, который властно карает мир и милосердно спасает праведника. Образность стала проще, обобщеннее, лапидарнее, чтобы дать место суровому нравственному содержанию. Стихия мифа покорилась поэтике притчи.
Первые одиннадцать глав «Книги Бытия» изображают «начало» в самом прямом смысле этого слова: начало мироздания, начало человечества. Начиная с главы 12 тема книги меняется: это по-прежнему «начало», но на сей раз начало «избранного» рода, которое мыслится как предыстория другого начала — народа Яхве. Герои повествования, так называемые библейские «патриархи», или «праотцы», — выходец из Месопотамии Авраам, его родичи, сыновья, внуки и правнуки. Они изображены как старейшины небольших семейно-родовых сообществ, кочующих на пространствах Ханаана между
280
Месопотамией и Египтом. Согласно библейскому рассказу, отдаленным потомкам этих родов предстояло через полтысячелетие стать ядром еврейской народности.
Заметим, что уже здесь дан сквозной мотив всей древнееврейской литературы — обетование, на которое не только возможно, но безусловно необходимо без колебания променять наличные блага. Многократно повторяемые в повествовании «Книги Бытия» благословения и обещания, которые вновь и вновь дает Яхве Аврааму, затем Иакову, а устами Иакова — детям Иакова, создают ритмическое ощущение неуклонно возрастающей суммы божественных обещаний счастья.
Неоднократно высказывалась гипотеза, согласно которой Авраам, Исаак и Иаков — мифологические фигуры в узком смысле слова, т. е. местные или племенные божества языческой Палестины, лишь впоследствии «очеловеченные» в соответствии с принципом монотеизма. Однако в свете новейших археологических данных эта гипотеза становится неубедительной. В целом мир библейских патриархов довольно точно соответствует тому, что́ с недавнего времени стало известно о северной Месопотамии и Ханаане века Средней Бронзы. Установление реальной основы саги о патриархах позволяет определить жанровую принадлежность соответствующих глав «Книги Бытия». Весь характер изложения говорит, что это сага, родовое предание, историческая легенда, порой историческая сказка, но уже не миф в собственном смысле слова. Мифологические фабулы разных народов при всех несходствах выявляют принципиально одинаковый способ обобщения действительности, основанный на осмыслении исторического в образах природы, человеческого — в образах мироздания.
Среди рассказов о патриархах особенно выделяется эпизод Иосифа, очень большой по объему (гл. 37—50) и расцвеченный колоритными новеллистическими подробностями. Сюжетная канва такова: Иаков среди всех своих двенадцати сыновей любит Иосифа особенной любовью, ибо, как тонко мотивирует повествователь, «тот был сыном его старости» (37, 3); братья из ревности и зависти нападают на отцовского любимчика и продают его в рабство бродячим купцам, которые, в свою очередь, перепродают юношу в Египет. После этого злого дела братья обрызгивают одежду Иосифа кровью козленка, чтобы внушить отцу, будто Иосифа растерзал лев. «...И разодрал Иаков одежды свои, и возложил власяницу на чресла свои, и скорбел по сыне своем много дней. И поднялись все его сыновья и дочери, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и говорил: „Воистину скорбящим сойду я к сыну моему в преисподнюю“» (37, 34—35). Между тем юный Иосиф оказывается рабом египетского придворного Потифара и вскоре приобретает его чрезвычайное расположение, но и жена Потифара влюбляется в Иосифа; когда тот отказывается предавать господина, гневить Яхве и осквернять собственное целомудрие, госпожа обвиняет его перед Потифаром в покушении на свою честь (широко распространенный в мировой литературе мотив Федры — Ипполита). Иосиф брошен в заточение, но и начальника темницы ему удается заставить полюбить себя. Вскоре в той же тюрьме оказываются двое придворных — виночерпий и хлебодар фараона; оба они видят вещие сны, и Иосиф, имеющий особую близость к миру сновидений (еще у отца он сам видел вещие сны и был прозвав братьями «Сновидцем»), уверенно их разгадывает и предрекает одному — оправдание, другому — казнь. Но затем и сам фараон видит двойной сон (сначала семь тощих коров пожирают семь тучных коров, затем то же самое происходит с семью пустыми и семью полными колосками). Придворные гадатели и эксперты по снотолкованию бессильны; освобожденный виночерпий докладывает фараону о необыкновенных способностях своего бывшего товарища по заключению, и Иосиф вызван к фараону. Иосиф не только разгадывает сон, предрекая семь лет недорода после семи лет урожая, но и настолько очаровывает фараона, что немедленно получает особые полномочия для предотвращения голода и становится вторым после фараона человеком в Египте. Между тем предсказанный недород наступает, и не только в Египетской земле, но и в Ханаане, так что сыновья Иакова вынуждены отправиться за хлебом в Египет, где предусмотрительный управитель фараона создал обильные запасы; они встречаются с этим управителем и беседуют с ним, не узнавая в нем брата, пока после ряда перипетий не приходит время для сцены узнавания. «И не мог более Иосиф сдерживаться при всех окружавших его, и закричал: „Выведите от меня всех!“ И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И он испустил вопль с плачем, и услышали египтяне, и услышал дом фараона. И сказал Иосиф братьям своим: „Я — Иосиф; жив ли еще мой отец?“ Но его братья не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим: „Подойдите ко мне!“ — и они подошли, и он сказал: „Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет; но не печальтесь, и пусть не мучает вас совесть, что вы продали меня сюда». И бросился он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее
281
его. И целовал он всех братьев, и плакал, обнимая их; потом беседовали с ним братья его» (45, 1—5, 14—15). Теперь остается еще одна встреча, встреча с отцом, престарелым Иаковом, который тоже прибыл в Египет, где Иосиф по праву властного вельможи устраивает на жительство все свое племя.
В этом рассказе можно проследить ряд мотивов с разнородной литературной судьбой, которые, однако, в пределах рассказа слиты в необычайно убедительное целое. Иосиф порой как будто проявляет черты сходящего в преисподнюю бога растительности (вроде Таммуза), но повествователь сумел наполнить характерное для мифа чередование катастроф и взлетов на пути своего героя чисто человеческим смыслом. Много общего у Иосифа с героем древнеегипетской «Сказки о двух братьях», невинным праведником, оклеветанным женщиной. Но личная судьба Иосифа, как и прочие эпизоды Библии (например, идиллия Руфи и Вооза, оказывающихся прародителями царской династии), ставится в многозначительную связь с судьбами всего народа в целом. В итоге выясняется, что на Иосифе лежала миссия — в трудный час спасти род, приготовив отцу и братьям приют в Египте. Таков этот персонаж — любимчик своего отца, отмеченный печатью избранничества, сочетающий красоту с целомудрием, а таинственный дар вещих снов и снотолкования — с практической рассудительностью, внушающий любовь чуть ли не всем, кто попадается на его пути, но и навлекающий на себя злобу и зависть, ввергаемый в горнило страдания и выходящий из него умудренным победителем. Во всем круге древних литератур Ближнего Востока нелегко отыскать другой столь же тонко разработанный образ.
Библейская история Иосифа оказала исключительно широкое влияние на целые эпохи литературного творчества в русле иудаистской, исламской и христианской традиций. Уже в первые века нашей эры в иудейских (или раннехристианских?) кругах Египта возникла написанная на греческом языке и под сильным воздействием техники греческого любовного романа «Душеполезная повесть о хлебодарстве Иосифа Всепрекрасного, и об Асенеф, и о том, как Бог сочетал их»: надменная языческая девица Асенеф охвачена с первого же взгляда безмерной любовью к сверхчеловеческой красоте Иосифа (наделенного чертами эллинистического солнечного божества), а потому принуждена смириться, покаяться во вретище и пепле, принять веру Яхве, за что награждена счастливым браком с благочестивым красавцем. Этот апокриф представляет собой красочное соединение древнееврейской литературной традиции с веяниями совершенно иного рода — мифологической образностью и числовой мистикой Египта, нежной чувствительностью греческой прозы. Над такими книгами плакали грамотеи из народа на протяжении всего Средневековья, слагая все новые и новые перелицовки старого мотива. Сирийская литература IV в. дала «Слово на Иосифа Прекрасного» Ефрема Сирина (Афрема), где образ неповинного страдальца развертывал свои экспрессивные возможности, оказываясь при этом символом и прообразом страданий Христа. Йусуфу (арабский вариант имени Иосиф) посвящена знаменитая 12-я сура Корана, на которую оглядывались поэты ислама, воспевая любовь библейского героя и Зулейки. Для всего круга литератур христианского Средневековья от Евфрата до Атлантики «Целомудренный Иосиф» — один из популярнейших персонажей; стоит особо упомянуть богатую традицию русских «духовных стихов» — фольклорных сказов, плачей и причитаний о скорбях проданного братьями праведника, восходящих к «Слову» Ефрема Сирина.
Новоевропейская литература тоже никак не могла пройти мимо этого чувствительного сюжета, дающего богатые возможности психологических мотивировок. Характерно, например, что за одно лишь десятилетие после 1532 г., весьма важное для становления драмы Нового времени, появляется только на германском севере Европы множество пьес об Иосифе (С. Биркк, Т. Гарт и т. д.). О разработке той же темы мечтал молодой Гёте; в XX в. к ней обратился Т. Манн (романная тетралогия «Иосиф и его братья», 1933—1943), превращая библейскую топику в предмет приложения рафинированной психоаналитической и религиеведческой учености и одновременно в орудие утверждения либерального гуманизма. Трагедия латышского писателя Я. Райниса с тем же заглавием (1919) — размышление о любви, ненависти, прощении.
Конец «Книги Бытия» оставляет род Иакова в Египте; с этой ситуации начинается «Книга Исхода». Ее первая глава повествует о том, как новый фараон, обеспокоенный растущей численностью пришлого племени, стремится занять опасных чужаков на тяжелых принудительных работах при строительстве городов (по-видимому, города эти — Питом, открытый во время раскопок в Телль Ретабех, и Пер Речемасесе, т. е. новостройки Таниса, так что события оказываются приурочены к царствованию Рамсеса II, иначе говоря, к началу XIII в. до н. э.); не удовольствовавшись этим, он приказывает умерщвлять новорожденных младенцев мужского пола, рождающихся у жен инородцев. Дальше эпический рассказ приобретает черты,
282
заставляющие вспомнить ближневосточно-средиземноморский круг легенд о рождении народных вождей — Саргона I Аккадского, Кира Старшего, Ромула и Рема: женщина рождает сына, три месяца скрывает его от преследователей, затем кладет в просмоленную корзинку и пускает по течению Нила; купающаяся дочь фараона замечает корзинку и подбирает младенца. Приемыша называют Моисей; его воспитывают при дворе и освобождают от принудительных работ, но однажды ему случается вступиться за избиваемого еврея, и в ссоре он убивает египтянина-надсмотрщика. После этого Моисей бежит из Египта обычным путем изгнанников — на северо-восток — и получает хороший прием у арабов Синайского полуострова; местный жрец Рагуил, он же Иофор, выдает за него дочь. Моисей ведет жизнь бродячего бедуина и во время одного скитания доходит до священной горы Хорева, где получает божественное откровение и пророческое призвание. Бог, который говорит с Моисеем из тернового куста, окруженного огнем и не сгорающего в огне («неопалимая купина»), именует себя «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова», устанавливая тем самым связь между имеющим быть новым «началом» народной истории и прежним «началом» времен патриархов; но одновременно он дает себе и новое имя, неизвестное патриархам, и это имя — Яхве. Моисею возвещена добрая весть — Яхве услышал вопль притесняемого племени и решил вывести его из Египта; при этом на Моисея возложена и обязанность приказать народу идти и приказать фараону отпустить народ. Испуг пророка перед своей миссией бесполезен: он должен повиноваться. Фараон не желает и слышать о том, чтобы отпустить своих подневольных строителей; тогда начинаются «казни египетские», общим числом 10 (вспомним, что десятью словами Яхве был сотворен мир). Характер этих бедствий соответствует природным условиям Египта (например, рыбий мор, осеннее изобилие мух, песчаный вихрь, затмевающий солнце, и т. п.); но их совокупность истолкована библейским повествователем как божья кара, понуждающая фараона исполнить волю Яхве. Народ под предводительством Моисея идет к опасному броду через болотистые лиманы Красного моря; «и отвел Яхве море сильным восточным ветром, и сделал море сушей, и расступились воды» (14, 21). Под покровом ночи переход завершается благополучно, а ранним утром возвратившийся прилив поглощает египетских преследователей. Спасшись от опасности, евреи движутся по древнему караванному пути вдоль берега Красного моря к горе Синай, у которой происходит торжественное заключение «завета» с Яхве на все времена. Это кульминация всего повествования «Книги Исхода»: рождение народа как сакральной общности. При грохоте грома и звоне труб Моисей один всходит на объятый огнем и дымом Синай, чтобы получить от Яхве закон. Сердцевина этого закона — знаменитые «десять заповедей» (дословно «десять речений»), определяющие в целом ориентиры ветхозаветной этики.
Первые четыре заповеди относятся к сфере сакрального права, остальные шесть — к сфере мирского права; но и те и другие непосредственно выведены из представления о Яхве. Бог незрим, и потому его невозможно овеществить в изображении, овладев им через это изображение; его имя запретно для упоминания «всуе» и постольку выведено из круга магических манипуляций. Бог един и единствен и потому ревнив — быть единым есть то же самое, что быть ревнивым; постольку он может направить на человека такую энергию яростной взыскательности, которая просто невозможна для самого властного языческого божества. Отсюда единственный в своем роде тон, который мы сразу же ощущаем в «Десятисловии», — тон безоговорочности. Обычный тип древнего законодательства (кодекс Хаммурапи, хеттские законы и т. п.) исходит из правовых «казусов» и оформляется по парадигме — «если кто-либо... то... но если... то...». Здесь нет места ни для каких «если» и ни для каких «но». Обусловленность сменилась безусловностью. Дойдя до своей кульминации — до изображения народа, вступающего в отношения «завета» с Яхве, — рассказ спешит тотчас же дать устрашающий образ главной угрозы «завету»: народного отступничества. Стоит Моисею задержаться в беседе с Яхве на высоте Синая, как народ требует от Моисеева брата Аарона (представляющего собой в Торе прототип иудейского священнослужителя): «Сделай нам божество, которое шло бы перед нами». В ответ на это требование оробевший Аарон изготовляет «золотого тельца», т. е. позолоченную статую молодого бычка — обычный для Ближнего Востока тех времен символ пло-дотворящей мужской силы; вокруг новоявленного кумира начинается буйное веселье. Сошедший с горы Моисей в гневе разбивает каменные скрижали с речениями Яхве, устраивает кровавую расправу над виновными, а затем в горячей молитве упрашивает Яхве простить народ, предлагая себя в жертву за него.
Уже в «Книге Исхода» эпос незаметно перетекает в изложение заповедей, законов и уставов; изложение это составляет почти исключительный предмет трех последующих книг Торы — «Книги Левит», «Книги Чисел» и «Второзакония». Лишь временами нарративо-эпическая
283
стихия приобретает первенствующее значение; так, в «Книге Чисел» на страх всем будущим отступникам и нечестивцам рассказан цикл грозных историй о том, как бывали наказываемы хулители Моисея и его миссии (люди, брезговавшие манной, — гл. 11; Аарон и Мириам, оспаривающие избранничество Моисея, — гл. 12; лазутчики Моисея, стращавшие народ паническими слухами, — гл. 13—14; побитый камнями первый осквернитель субботы — гл. 15; Корей, Дафан и Авирон, восстающие против принципа религиозного авторитета и пожранные разверзшейся землей, — гл. 16).
В остальном эпос уступает место разъяснению норм сакрального и мирского права; впрочем, само это разъяснение в каждый момент готово соотнести себя с эпическим воспоминанием о «начале», от которого оно получает свой авторитет. «Когда спросит тебя в будущем сын твой: „что это за уставы, и установления, и законы, которые заповедал вам Яхве, Бог ваш?“ — то скажи сыну твоему: „рабами были мы у фараона в Египте, но Яхве вывел нас из Египта рукою мощною; и явил Яхве знамения и великие чудеса, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред нашими глазами; а нас вывел Он оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую Он с клятвою обещал отцам нашим. И заповедал нам Яхве исполнять все эти установления, чтобы мы боялись Яхве, Бога нашего...“» (Второзак., 6, 20—24). В этом — сжатый итог всей Торы. Ибо мало дать закон: нужно еще всей властью поэтического слова заклясть народ на вечные времена держаться этого закона, заклясть настоятельно, непререкаемо, взыскующе.
Составлявшая некогда одно целое с Пятикнижием книга о завоевании Палестины под предводительством Иисуса Навина (Йегошуа бен-Нуна) насквозь эпична; это воинский эпос — но особый, который только и возможен внутри Библии. Для самоцельного любования геройским подвигом как таковым места не остается, все подчинено цели, каждый подвиг творится «во имя», и это «во имя» (во имя Яхве, во имя его предначертаний и обетований) оказывается в Библии несравненно важнее пластической эстетики личного героизма. В нужные моменты в игру вступает чудо. При осаде древнего города Иерихона (история которого восходит ко временам неолита), применены приемы культовой магии: народ, предводимый своей главной святыней — Ковчегом Завета, — семь дней подряд совершает в полном безмолвии торжественный обход стен, чтобы в конце концов вызвать ритуальными возгласами и звуком труб сокрушительное для стен землетрясение (вошедшая в поговорку «труба иерихонская»). Другое, еще более красочное чудо происходит после победоносной битвы против коалиции пяти хананейских царей, плоды которой могут быть потеряны из-за наступления ночи; Иисус Навин обращает к небесам свое ритмическое заклинание, и результаты заклинания по инерции изложены тоже в ритмической форме:
«Солнце, над Гаваоном встань,
и Луна — в долине Айалон!» —
Тогда Солнце сдержало бег
и остановилась Луна...
(Иис. Нав., 10, 12—13)
«Книга Иисуса Навина» завершается очень обстоятельным рассказом о разделе завоеванной ханаанской земли. Таким образом, и здесь эпический элемент служит обоснованию и утверждению наличного порядка: племена расселились так, а не иначе, потому что в «начале» каждому из них выпал соответствующий жребий. Позднейшие отношения сообразны с «началом» и, следовательно, сообразны с правильной мерой.
О судьбах евреев после прихода в Палестину, но до установления централизованной государственности (XII—X вв. до н. э.) повествует одна из самых архаических по языку и стилю библейских книг — «Книга Судей Израилевых». Мы уже обращались к ней, чтобы выписать из нее древнейший образец древнееврейской поэзии — «Песнь Деворы». Название книги подразумевает родовой институт «шофетов» — предводителей племени, творящих для своего племени суд и возглавляющих племенной союз в час общей беды. «Шофет» — старинное хананейское слово, которое у финикийцев всегда прилагалось к городским магистратам, носителям гражданской власти (можно вспомнить «суффетов» древнего Карфагена). Израильским «судьям», однако, приходится гораздо больше воевать, чем судить; а когда нужно судить, чтобы «искоренить зло из Израиля», суд и расправу по законам архаической военной демократии вершит сам народ (например, когда в городе Гибеа гостья гибнет от гнусного насилия, ее муж разрезает ее труп на двенадцать частей и рассылает их во все племена Израиля, вызывая их на сходку для кровной мести). Автор «Книги Судей», обрабатывающей древние сказания в иную, более цивилизованную эпоху, воспринимает описываемое им время, как величавое, но дикое и темное время варварского геройства, время силы и насилия. «В те дни не было царя у Израиля, — резюмирует он свой рассказ, — каждый делал то, что ему казалось справедливым». Евреи взяли страну, но отнюдь не утвердились в ней, им все время нужно отстаивать свое существование против уцелевших хананейских городов, против Моава, Эдома и Мидиана, против набегов из-за Иордана
284
и натиска филистимлян от Средиземного моря. Одно время израильские племена подавлены силой разбойничьих мидианитских племен; тогда народный вождь Гедеон собирает маленький отряд в три сотни человек и прогоняет мидианитян. Народ предлагает ему царскую власть; на это предложение следует характерный ответ: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; один Яхве пусть владеет вами!» (8, 23). Вольнолюбие варвара переплетается таким образом с благочестием почитателя Яхве; человек должен покоряться только одному Яхве, и потому его религиозная обязанность — быть свободным. Этот ход мысли сохранил свою убедительность еще для иудейских «зелотов» (ревнители) I в. н. э.
Но время патриархальной вольности подходит к концу. Уже Авимелек, сын от брака Гедеона с хананеянкой, ненадолго становится царем в Сихеме, истребив для этого своих многочисленных братьев; правда, его попытка распространить свою власть на весь Израиль приводит его к гибели.
Другой эпизод «Книги Судей» — история Иеффая (Йифтах). Этот незаконнорожденный и лишенный наследства богатырь добывает себе средства на жизнь лихим разбоем — занятие, которое в глазах варваров нисколько не позорит мужчину. Когда на Израиль идет враг, храброго атамана приглашают стать полководцем. Перед походом он дает неосторожный обет: в случае победы принести в жертву то существо, которое первым выйдет ему навстречу из ворот. Этим существом оказывается его единственная дочь. Иеффаю приходится принести ее в жертву — совершенно так же царь Моава приносит в жертву своего сына во время войны с Израилем (II, Цар., 3, 27), или как Агамемнон закалывает на алтаре Ифигению. Герои «Книги Судей» — менее всего образцы позднейшего иудейского благочестия; это варвары среди варваров, и библейский рассказ рисует их именно такими.
Не меньшей непринужденностью отличается сказание о Самсоне (Шимшон). Правда, его фон составляют мистико-ритуалистические представления древних евреев: Самсон еще до своего рождения избран богом и посвящен ему как «назорей» (форма жизни посвященного богу): в знак своей посвященности он должен всю жизнь воздерживаться от хмельного, и главное, не стричь волос. Избранность, однако, не мешает ему быть простодушным народным богатырем, склонным к грубоватой шутке и шутовским выходкам, к тому же у него слабость к женщинам враждебного народа. Когда он ночует в филистимском городе Газы у городской блудницы, а жители Газы пытаются устроить на него засаду, он в посмеяние Газе взваливает себе на плечи городские ворота и относит их в окрестность Хеврона. Но другой филистимской женщине по имени Далила удается выведать его тайну: его сила связана с его назорейством, и потому достаточно обрезать ему волосы и тем самым «расстричь» из назореев, и он ослабеет (возможна мифологическая ассоциация между волосами Самсона как солнечного героя и лучами Солнца, составляющими силу Солнца; Шимшон от «шемеш» — «Солнце»). Во время сна Далила обрезает ему волосы. Филистимляне берут Самсона в плен, выкалывают ему глаза, сковывают цепями и принуждают к каторжной работе; но в заточении у него отрастают волосы, и он сокровенно возвращает себе сан назорея, а тем самым — свою силу. Не подозревая об этом, враги во время праздника на забаву себе выводят Самсона из темницы и приводят в огромный зал, полный народа. С возгласом: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» — слепой богатырь сворачивает деревянные подпорки крыши с их каменных оснований и рушит здание на себя и на участников праздника. «И было погибших, которых умертвил он в смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей» (Суд., 16, 30).
Дата добавления: 2016-07-11; просмотров: 1387;