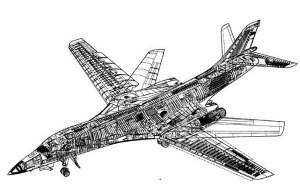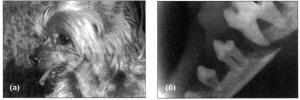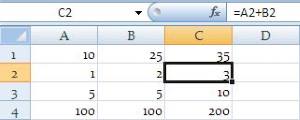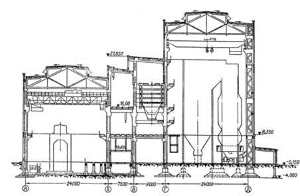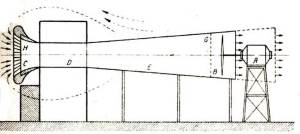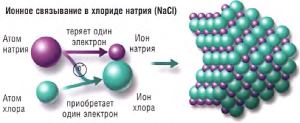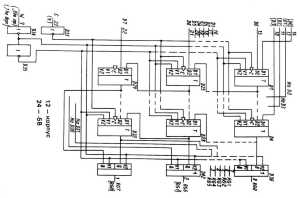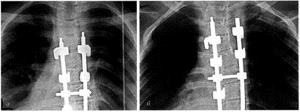И ДРАМАТУРГИИ Л.Н. АНДРЕЕВА
Критический реализм, «фантастический реализм», «неореализм», реальный мистицизм, экспрессионизм – таковы определения творческого метода Андреева в современной ему критике. Впоследствии писатель объявлялся то экспрессионистом, то символистом, то предшественником экзистенциализма. Андреев писал Горькому в 1912 г.: «Кто я? Для благороднорожденных декадентов – презренный реалист; для наследственных реалистов – подозрительный символист»[321]. Эстетические и художнические искания Андреева объективно отражали столкновение в его сознании реалистического и декадентского миропонимания. Постоянное противоборство их в сочетании с попытками примирения, «синтеза» – в этом своеобразная художническая «цельность» Андреева. Так кто же он – Леонид Андреев?
Литературную деятельность Леонид Николаевич Андреев (1871– 1919) начал во второй половине 90-х годов (по окончании в 1898 г. юридического факультета Московского университета) в газетах «Орловский вестник» и «Курьер». Идейное направление этих газет было радикальным. «Курьер» сочувственно относился к нарастанию революционного движения, отстаивал традиции и идеалы русской демократической общественной мысли, реализм в литературе. Газета широко популяризировала творчество реалистов нового поколения – Горького, Вересаева, Куприна. В «Курьере» участвовали в то время такие писатели и общественные деятели из «стариков», как Вас. Немирович-Данченко, В. Гольцев, П. Сакулин, В. Каллаш, Н. Ашешев, из «молодых» – В. Поссе, П. Коган, А. Серафимович, А. Луначарский. В этой среде и проходил свою литературную школу Андреев.
В «Курьере» Андреев печатает фельетоны, рассказы, литературные и театральные рецензии, ведет воскресный фельетон «Мелочи жизни» и фельетон «Впечатления», выступает в качестве судебного репортера. В фельетонах (подписанных псевдонимом Джейм Линч) Андреев приветствует подъем общественного самосознания, обличает обывательщину.
Особый интерес представляют фельетоны и статьи Андреева о литературе и искусстве. В них он заявляет о своей связи с традициями литературы 70–80-х годов – М. Салтыкова-Щедрина, Н. Михайловского, пишет об общественном предназначении литературы и гражданском долге литератора. Образцом литературного служения родине Андреев считает жизнь и творчество Глеба Успенского –художника, в страданиях искавшего «по всей широкой России давно затмившейся правды и давно оброненной совести»[322].
Сам Андреев началом своего творческого пути считал 1898 год, когда в «Курьере» был напечатан его «пасхальный» рассказ «Баргамот и Гараська». В 1898–1900 гг. в «Курьере», «Журнале для всех», ежемесячнике «Жизнь» он публикует рассказы «Петька на даче», «Из жизни штабс-капитана Каблукова», «Рассказ о Сергее Петровиче» и др. Осенью 1901 г. в издательстве «Знание» выходит книга его «Рассказов».
Большую роль в писательской судьбе Андреева сыграл Горький. Уже первый рассказ Андреева привлек его внимание. Горький почувствовал в Андрееве «дуновение таланта», напоминающего талант Помяловского[323]. Вскоре Горький ввел Андреева в литературный кружок «Среда». «...Знакомство с Максимом Горьким,– писал Андреев,–я считаю для себя, как для писателя, величайшим счастьем. Он первый обратил серьезное внимание на мою беллетристику (именно на первый напечатанный мой рассказ «Баргамот и Гараська»), написал мне и затем в течение многих лет оказывал мне неоценимую поддержку своим всегда искренним, всегда умным и строгим советом»[324].
В первых рассказах Андреева ощутимо влияние не только Помяловского и Г. Успенского, но и Толстого, Достоевского, Чехова, Салтыкова-Щедрина. Андреев пишет об «униженных и оскорбленных», о засасывающей пошлости и отупляющем воздействии на человека мещанской среды, о детях, задавленных нуждой, лишенных радостей, о тех, кто брошен судьбой на самое «дно» жизни, о мелком чиновном люде, о стандартизации человеческой личности в условиях буржуазного общества. В центре внимания Андреева «маленький», «обыкновенный» человек.
Некоторые темы раннего Андреева (прежде всего тема одиночества человека), а также жанровые особенности рассказа (рассказ-аллегория, рассказ-исповедь) связаны с традицией Гаршина. Сам Андреев, говоря о воздействии на него традиций предшественников, ставил Гаршина перед Толстым и Достоевским.
Обычно рассказы Андреева предреволюционного периода как традиционно-реалистические, так и философско-обобщенного плана строились на бытовом материале. Социальная критика, содержавшаяся в них, опиралась на абстрактно-гуманистические, утопические иллюзии автора о возможности морального совершенствования общества, на веру в преобразующую силу совести каждого человека, независимо от его общественной принадлежности. Гуманизм Андреева приобретал зачастую окраску сентиментальную, особенно в произведениях, написанных под влиянием классика английской литературы XIX в. Диккенса, которым писатель в то время увлекался. «Первый мой рассказ,– писал Андреев в автобиографической справке,– «Баргамот и Гараська» – написан исключительно под влиянием Диккенса и носит на себе заметные следы подражания»[325].
К традиции Диккенса восходил и излюбленный Андреевым жанр «пасхального» рассказа с благополучно-сентиментальной развязкой. Так, рассказ «Баргамот и Гараська» заканчивался примирением двух людей, «человеческим» взаимопониманием городового и нищего босяка. Однако в этом и в других рассказах «гармония» благополучного исхода бралась под сомнение авторской иронией. Для Андреева социальная гармония вне общей нравственной победы добра над злом была весьма отдаленной. И в бытовых, и в философских рассказах Андреева уже отчетливо пробивалась устремленность писателя к решению «общих вопросов», стремление увидеть через бытовое «существенное», то, что движет вообще человеческую жизнь, тяготение к такой подсветке явлений жизни, которая выльется затем в характерную андреевскую символику. Уже в этот период Андреев усматривает дисгармонию и в социальной, и в индивидуальной психологии человека; ему видится непримиримое сочетание в ней светлого и темного, доброго и злого, тиранического и рабского.
Реально-бытовые рассказы Андреева строятся на исключительной ситуации, которая показывает человека в необычном жизненном ракурсе и позволяет автору раскрыть неожиданные глубины человеческого сознания и психики. Обычно общий смысл рассказа заключен в каком-либо одном его эпизоде.
В рассказе «Ангелочек» (1899) Андреев знакомит читателя с раздумьями мальчика Сашки о несправедливости его жизни и жизни вообще: «Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью...» Вечно пьяная, замученная работой мать Сашки и его опустившийся отец также думают лишь «о несправедливости и ужасе человеческой жизни». Для «смятенной души» мальчика символом надежды становится восковой ангелочек – игрушка, которую он выпросил с богатой рождественской елки. В ангелочке сосредоточилось для него «все добро, сияющее над миром». Любуясь игрушкой, и сын, и жалкий отец «по-разному тосковали и радовались, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым». Но фигурка тает у горячей печки, от ангелочка остается лишь «бесформенный восковой слиток». Этому эпизоду и подчинен бытовой материал рассказа. В нем выражена главная мысль автора об иллюзорности человеческих надежд на счастье, на возможность преодоления чувства безграничного одиночества.
В рассказе «Большой шлем» (1899) четверо людей, играя в винт «лето и зиму, весну и осень» в течение многих лет, ничего не знают друг о друге. А где-то вне дома происходят какие-то события: «...дряхлый мир покорно нес тяжелое бремя бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных». Когда один из игроков умер, оказалось, что никто не знал, кто он и где он жил. Жизнь, личность обесценены до предела.
Так у Андреева преобразилась чеховская тема трагической повседневности. Впоследствии, развивая эту тему, Андреев трактует саму человеческую жизнь как бессмысленную игру, как маскарад, где человек – марионетка, фигура под маской, которой управляют непознаваемые силы.
«Рассказ о Сергее Петровиче» (1900) Андреев считал одним из лучших своих созданий. В дневниковой записи (1 апреля 1900 г.) обозначено: «...это рассказ о человеке, типичном для нашего времени, признавшем, что он имеет право на все, что имеют другие, и восставшем против природы и против людей, которые лишают его последней возможности на счастье. Кончает он самоубийством – «свободной смертью», по Ницше, под влиянием которого и рождается у моего героя дух возмущения»[326].
Герой рассказа Сергей Петрович – «обыкновенный» студент-химик, обезличенная и изолированная в буржуазном обществе «единица». Обращение к философии Ницше не помогает герою найти выход из тупиков жизни, нивелирующей его как личность. «Восстание» по-ницшеански абсурдно и бесперспективно. Формула: «Если тебе не удается жизнь, знай, что тебе удастся смерть» – дает Сергею Петровичу только одну возможность утвердить себя –самоубийство. Протест героя Андреева против подавления личности приобретает специфическую форму, имеет не столько конкретно-социальную, сколько отвлеченно-психологическую направленность.
В отличие от Горького, Андреев утверждает право человека на свободу в ее индивидуалистическом понимании. Но и этот рассказ заключает в себе глубокую иронию автора, в нем звучит открытое неприятие ницшеанской философии: «...обездоленная и обезличенная, «единица» под ее воздействием превращается вовсе в "нуль"»[327].
Горький высоко ценил талант Андреева. Но его тревожила неясность социального сознания писателя. В письме к Е. Чирикову (1901), говоря о рассказе Андреева «Набат», Горький писал, что пока «начинка» андреевского таланта – «одно голое настроение», еще не прихваченное «огоньком общественности»[328]. В письмах Андрееву Горький постоянно привлекал его внимание к критическому осмыслению социальных противоречий реальной жизни, указывал на общественное значение критики мещанской идеологии и морали: «Ты – пиши знай. Пощипли «Мысль» мещанскую, пощипли их Веру, Надежду, Любовь, Чудо, Правду, Ложь – ты все потрогай. И, когда ты увидишь, что все сии устои и быки, на коих строится жизнь теплая, жизнь сытая, жизнь грешная, жизнь мещанская, зашатаются, как зубы и челюсти старика,– благо ти будет»[329]. И Андреев откликается на этот совет Горького. В рассказе «Мысль» (1901) получает яркое выражение одна из существенных тем творчества позднего Андреева–бессилие и «безличие» человеческой мысли, «подлость» человеческого разума, зыбкость понятий правды и лжи. Герой рассказа доктор Керженцев ненавидит и решительно отвергает нравственные нормы, этические принципы буржуазного общества. Безграничная мощь мысли становится для него единственной истиной мира. «Вся история человечества,– пишет он в своих записках,– представлялась мне шествием одной торжествующей мысли». «...Я боготворил ее,– говорил он о мысли,– и разве она не стоила этого? Разве, как исполин, не боролась она со всем миром и его заблуждениями? На вершину высокой горы взнесла она меня, и я видел, как глубоко внизу копошились людишки с их мелкими животными страстями, с их вечным страхом и перед жизнью и смертью, с их церквами, обеднями и молебнами». Постепенно Керженцев начинает опираться только на свою собственную «свободную» мысль. Тогда-то для него и приобретают относительный характер понятия добра и зла, нравственного и безнравственного, правды и лжи. Чтобы доказать свою свободу от законов безнравственного общества, Керженцев убивает своего друга Алексея Савелова, симулируя сумасшествие. Он наслаждается мощью своей логик, которая позволяет ему избегнуть наказания и тем самым «стать над людьми». Однако симулируемое безумие оборачивается подлинным безумием. Мысль убила «ее творца и господина» с тем же равнодушием, с каким он убивал ею других. Бунт Керженцева против предательства мысли вырождается в бунт против человечества, цивилизации: «Я взорву на воздух вашу проклятую землю...» Концовка рассказа вновь глубоко иронична и парадоксальна. Судебные эксперты оказываются бессильными определить, здоров или безумен Керженцев, совершил ли он убийство в здравом уме или будучи уже сумасшедшим.
Мысль Керженцева эгоцентрична, внесоциальна, не одушевлена ни общественной, ни нравственной идеей. Индивидуалистически замкнутая сама в себе, она заведомо обречена на саморазрушение, в процессе которого становится опасной и губительной и для окружающих, и для самого ее носителя.
В рассказе Андреев показал страшный процесс разрушения личности индивидуалиста. Керженцев, считавший себя властелином своей мысли и своей воли, «стал на четвереньки и пополз». Но разоблачение индивидуалистического сознания под пером писателя приобрело характер развенчания человеческого разума, человеческой мысли вообще. Так абстракции Андреева получили смысл, отличный от замысла произведения. Для него трагедия Керженцева–трагедия человека, разрушившего в себе некие извечно существующие «нравственные инстинкты». Этим объясняет он причину распада личности Керженцева. Возведя трагедию индивидуалиста до уровня трагедии человека, Андреев отошел от той правды, которую хотел видеть в его творчестве Горький.
Стремление усилить эмоциональную окрашенность и символическое звучание образов влекли Андреева к поискам новых форм письма. Итогом этих идейно-художественных поисков стал рассказ «Жизнь Василия Фивейского», над которым писатель работал около двух лет. Вместе с поэмой Горького «Человек» рассказ был опубликован в первом сборнике товарищества «Знание» в 1904 г. Своим настроением освободить человека от предрассудков, «опутавших жизнь и мозг людей», рассказ перекликался с горьковской поэмой. Это повествование о трагической судьбе деревенского священника, «человека догмата», фанатика веры. В «Жизни Василия Фивейского» Андреев задумал «расшатать» веру. «Я убежден,– писал он в письме к критику М. Неведомскому,– что не философствующий, не богословствующий, а искренне, горячо верующий человек не может представить Бога иначе, как бога-любовь, бога-справедливость, мудрость и чудо. Если не в этой жизни, так в той, обещанной, Бог должен дать ответы на коренные вопросы о справедливости и смысле. Если самому «смиренному», наисмиреннейшему, принявшему жизнь, как она есть, и благословившему Бога, доказать, что на том свете будет, как здесь: урядники, война, несправедливость, безвинные слезы, – он откажется от Бога. Уверенность, что где-нибудь да должна быть справедливость и совершенное знание о смысле жизни – вот та утроба, которая ежедневно рождает нового Бога. И каждая церковь на земле – это оскорбление неба, свидетельство о страшной неиссякаемой силе земли и безнадежном бессилии неба»[330].
Без сомнений верит в Бога и принимает его волю священник Василий Фивейский, вопреки всем бедам, павшим на него, как на библейского Иова: гибель сына, рождение второго сына-урода, пьянство и смерть жены. В своих страданиях он начинает видеть волю провидения, свидетельство своей избранности и мирится с ними. Но со страданиями других людей отец Василий примириться не может: «Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего Бога». Постепенно для Фивейского наступает страшное прозрение: Бог не хочет или не может помочь людям –там ничего нет. Тогда он бунтует против неба. Но, потеряв веру, сам Василий не в силах дать что-либо людям. Над ужасом окружающего раздается злобный смех урода – его сына, который олицетворяет в рассказе некую злую преднамеренность самой жизни, безнравственность вселенского хаоса. Идея роковой предопределенности жизни человека и человечества составляет в конечном итоге смысл этого рассказа. Человек не владеет знанием законов мира, да и овладеет ли? Но если так, то можно ли устроить жизнь на разумных основах добра и справедливости? Эти вопросы о смысле и цели бытия и задает в рассказе писатель.
«Василий Фивейский» потряс современников. Короленко писал о теме рассказа, что это «одна из важнейших, к каким обращается человеческая мысль в поисках за общим смыслом человеческого существования»[331]. Изображенный Андреевым духовный кризис отца Василия, человека, наивно думающего избавить человечество от зла жизни волею неба, современниками воспринимался как призыв своими силами добиваться правды на земле.
Успех обнадежил Андреева в творческих поисках новой, особой выразительности художественного стиля. В цитированном письме Неведомскому он выразил уверенность, что «так можно писать», что «окрылен на новые ирреальные подвиги». Действительно, в рассказе была заложена целая эстетическая программа писателя. По мнению Короленко, повествование «полно нервного захвата. Читатель попадает в какой-то вихрь, палящий и знойный»[332]. Эпичность сочетается с повышенно нервной экспрессивностью. В «Жизни Василия Фивейского» наметились и общие принципы использования и обработки Андреевым древних литературных источников, прежде всего Библии.
Сюжет рассказа построен по типу жития. А ассоциация образа отца Василия с библейским образом Иова задана уже в первых репликах рассказа. Но Андреев переосмысливает библейские сюжеты и образы, полемизируя с их канонической трактовкой. Фивейский обретает ореол «святого», пройдя через все муки жизни, в то время как житийные святые святы изначально, по своей природе. Переосмыслена Андреевым и библейская легенда об Иове – о смысле человеческого бытия, отношений воли человека и воли провидения.
Таким образом, болезненная чуткость к человеческому страданию и в то же время неверие в способность победить зло, поэтизация анархической свободы личности, обостренный интерес к интуитивному, подсознательному в человеке – таковы характерные черты раннего творчества Андреева.
Новый этап творческого развития Андреева открывается рассказом «Красный смех» (1904). Рассказ написан в разгар русско-японской войны. Он был «дерзостной попыткой», как говорил сам Андреев, воссоздать психологию войны, показать состояние человеческой психики в атмосфере «безумия и ужаса» массового убийства. Протестуя против войны, Андреев нарочито сгущает краски. В его изображении люди на войне настолько теряют человеческий облик, что превращаются в безумцев, которые бессмысленно и жестоко не только истребляют друг друга, но и готовы «как лавина» уничтожить «весь этот мир». «...Мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи... мы попляшем на развалинах... мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел... Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая... но она красная, у нее такой веселый красный смех!..» В рассказе проявились характерные для манеры позднего Андреева болезненная взвинченность тона, гротескность образов, нагнетение контрастов. Картины войны, изображенные в рассказе, напоминают антивоенные офорты испанского художника Гойи, одного из любимых художников Андреева. Не случайно, задумав издать рассказ отдельной книгой, Андреев хотел иллюстрировать его офортами Гойи из серий «Капричос» и «Десастрес де ла герра» («Бедствия войны»). Великий испанец писал эпоху глубочайших социально-исторических перемен, распада феодального строя, буржуазных революций, войн, трагедий народов. Он страдал и кричал за всех. Грань времен ощущалась в его творчестве с потрясающей силой. Очевидно, именно это было близко Андрееву. Его привлекала и манера Гойи – сплав, органическое единство житейского и универсального, реального и фантастического. В «Красном смехе» связь образов-видений с конкретным жизненным содержанием поражает.
Характерно, что Андреева не интересовали социальные причины войны, типические характеры или типические обстоятельства. Самое важное для него в рассказе – выразить себя, свое личное отношение к данной войне, а через это –ко всякой войне и вообще к убийству человека человеком. Реалистическое изображение действительности со всей очевидностью уступает в рассказе место принципиально новому стилю изложения.
Андреев осознавал, что все более отходил от реализма: как писал он Л.Н. Толстому, посылая рукопись «Красного смеха», «сворачивал» от него «куда-то в сторону»[333].
Позже в мировом искусстве метод, к которому тяготел Андреев в «Красном смехе», заявил о себе как экспрессионизм. С наибольшей полнотой черты этого метода проявились в драматургии Андреева («Жизнь Человека», «Царь-Голод», философские драмы 1910-х годов). Подъем революционного движения накануне 1905 г. захватывает Андреева. Публичные выступления писателя пресекаются властями за их революционный характер; он участвует в заседаниях «Среды»; в 1904 г. подписывает протест литераторов против зверств московской полицейской власти. Однако именно в эти годы начинаются решительные расхождения Горького с Андреевым. Писатели по-разному оценивают перспективы развития революции, ее идеалы, роль литературы в общественной борьбе. Андреев занял позицию «надпартийности» в искусстве. Партийность творчества Горького кажется Андрееву «фатализмом». Андреев пытается обосновать идеологическую независимость творчества от политических направлений, а это оборачивалось утратой связи с революционными силами современности.
Двойственность отношения Андреева к революции выразилась в его пьесе «К звездам», созданной в самый разгар революционного движения 1905 г. Пьеса выделяется из всего написанного Андреевым о революции. Автор, как отмечал Луначарский, поднялся в ней «на большую высоту революционного мирочувствования»[334].
Поначалу пьесу о роли интеллигенции в революции Горький и Андреев хотели написать вместе. Но с развитием революционных событий сложились разные отношения писателей к этому вопросу. Единый первоначальный замысел реализовался в двух пьесах – в горьковской «Дети солнца» (февраль 1905 г.) и андреевской «К звездам» (ноябрь того же года). Пьеса Андреева отразила глубочайшие расхождения писателей в понимании смысла и целей революции.
Место действия пьесы – обсерватория ученого астронома Терновского, расположенная в горах, вдали от людей. Где-то внизу, в городах, идет сражение за свободу. Революция для Андреева только фон, на котором развертывается действие пьесы. «Суетные заботы» земли противопоставлены Терновским вечным законам Вселенной, «земные» устремления человека – стремлениям понять мировые законы жизни в ее «звездной» бесконечности.
Революция терпит поражение, революционеры гибнут; не выдержав пыток, сходит с ума сын Терновского. Друзья революционеров – сотрудники Терновского – возмущены его философией и в знак протеста покидают обсерваторию. Рабочий Трейч готовится к продолжению революционной борьбы. Но спор «правды» Терновского и «правды» революции остается в пьесе неразрешенным.
Если Горький в «Детях солнца» зовет интеллигенцию – «мастеров культуры» – к борьбе вместе с народом за новые формы социальной жизни, то Андреев питает иллюзию о возможности остаться «над схваткой», хотя испытывает тяготение к революции. Сочувственное отношение писателя к революции и революционерам выразилось в таких произведениях, как «Губернатор» (1905), «Рассказ о семи повешенных» (1908); в них он писал о расправе царизма с освободительным движением! Но реальные события революционной борьбы осмысляются Андреевым опять в плоскости «общечеловеческой» психологии.
Сюжет рассказа «Губернатор» опирается на известный факт казни эсером И. Каляевым московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, приговоренного социал-революционерами к смертной казни за избиение на улицах Москвы демонстрантов в 1905 г. «И все,– писал Андреев В. Вересаеву,– и сам С.А. ждали, и казнь совершилась»[335]. Внимание Андреева сосредоточено на проблеме неотвратимости внутреннего нравственного возмездия, которое карает человека, преступившего законы человеческой совести. В ощущении неизбежности возмездия в Петре Ильиче пробуждается человек, который сталкивается с тем бесчеловечным, что приняло в нем облик губернатора. Петр Ильич-человек сам казнил Петра Ильича-губернатора. Выстрел революционера был лишь внешней материализацией этой казни. Социальный конфликт между деспотической властью и народом решался в абстрактно-психологическом плане. Но современниками в бурные революционные годы рассказ воспринимался как предупреждение самодержавию о неотвратимости наказания.
В знаменитом «Рассказе о семи повешенных», увидевшем свет в годы жестоких полицейских расправ с демократами, Андреев с глубоким состраданием писал о приговоренных к казни революционерах, все они очень молоды: старшему из мужчин было двадцать восемь, младшей из женщин – девятнадцать. Судили их «быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время». Но и в этом рассказе горячий социальный протест писателя против расправы с революционерами и революцией переводится из сферы социально-политической в нравственно-психологическую – человек и смерть. Перед лицом смерти все равны: и революционеры, и преступники; их связывает воедино, отграничивая от прошлого, ожидание смерти. Противоестественность поведения героев Андреева отмечена Горьким в статье «Разрушение личности»: «Революционеры из «Рассказа о семи повешенных» совершенно не интересовались делами, за которые они идут на виселицу, никто из них на протяжении рассказа ни словом не вспомнил об этих делах».
Увлеченность Андреева революцией, героическими подвигами народа, о чем не раз говорил он в выступлениях и письмах тех лет, перемежалась с пессимистическими предчувствиями, неверием в достижимость социальных и нравственных идеалов революции. Метафизически воспринимая ход революционного развития мировой истории и опыт Великой французской революции, Андреев в рассказе «Так было» (1905) утверждает недостижимость идеалов свободы и равенства, ибо масса апатична, за революцией всегда устанавливается тирания. Ход маятника старинных часов символизирует здесь роковой, повторяющийся ход истории.
В 1906 г. Андреев пишет рассказ «Елеазар», в котором его пессимистический взгляд на мир и судьбы человека в мире становится тем «космическим пессимизмом», о котором так много писала современная критика.
В обработке евангельской легенды о воскресении Лазаря Андреев с потрясающей экспрессией воплощает свою идею об ужасе человека перед роком и смертью. Он пытается доказать, что жизнь беззащитна, мала и ничтожна перед той «великой тьмой» и «великой пустотой», что объемлет мироздание. «И объятый пустотой и мраком,– писал Андреев,– безнадежно трепетал человек перед ужасом бесконечного».
Настроения социального пессимизма в творчестве Андреева обостряются в годы реакции. Завершается разрыв писателя с традициями русского реализма, который не удовлетворяет его, ибо содержание в нем, по мысли Андреева, подавляет форму. В то же время символизм воспринимается им как подавление содержания художественной формой. Андреев ставит перед собой задачу синтезировать эти литературные методы. Такой попыткой была его пьеса «Савва» (1907) об одиночке-анархисте, стремящемся взорвать все созданное людьми на протяжении человеческой истории. Своим подлинно новаторским произведением Андреев считал драму «Жизнь Человека» (1906). Она Действительно как бы подвела итог его размышлениям о смысле жизни и поискам художественной формы. «Придумал,–писал Андреев о пьесе К.П. Пятницкому,– некоторую новую драматургическую форму, такую, что декаденты рот разинут»[336].
Андреев программно отошел здесь от изображения индивидуальных судеб. В письме Немировичу-Данченко он говорил, что в своих пьесах хочет остаться «врагом быта – факта текущего. Проблема бытия – вот чему безвозвратно отдана мысль моя...»[337]. Этой пьесой открывается цикл андреевских философских драм («Жизнь Человека», 1906; «Черные маски», 1908; «Анатэма», 1909).
В пьеса «Жизнь Человека» разрабатывается проблема роковой замкнутости человеческого бытия между жизнью и смертью, бытия, в котором человек обречен на одиночество и страдание. В такой схеме жизни, писал о пьесе Станиславский, родится и схема человека, маленькая жизнь которого «протекает среди мрачной черной мглы, глубокой жуткой беспредельности»[338].
Аллегорию жизни, натянутой как тонкая нить между двумя точками небытия, рисует Некто в сером, олицетворяющий в пьесе рок, судьбу. Он открывает и закрывает представление, выполняя роль своеобразного вестника, сообщающего зрителю о ходе действия и судьбе героя, разрушая всякие иллюзии и надежды человека на настоящее и будущее: «Придя из ночи, он возвратится к ночи и сгинет бесследно в безграничности времен». Некто в сером воплощает мысль Андреева о бесстрастной, непостижимой фатальной силе мира. Его монологи и реплики обращены к зрителю: «Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека, с ее темным началом и темным концом... Родившись, он примет образ и имя человека и во всем станет подобен другим людям, уже живущим на земле. И их жестокая судьба станет его судьбою, и его жестокая судьба станет судьбою всех людей. Неудержимо влекомый временем, он непреложно пройдет все ступени человеческой жизни, от низу к верху, от верха к низу. Ограниченный зрением, он никогда не будет видеть следующей ступени, на которую уже поднимается нетвердая нога его; ограниченный знанием, он никогда не будет знать, что несет ему грядущий день, грядущий час – минута. И в слепом неведении своем, томимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно совершит круг железного предначертания». В этом монологе – суть всей пьесы. Сцена бала (ее Андреев считал лучшей в пьесе) вводится ремаркой: «Вдоль стены, на золоченых стульях сидят гости, застывшие в чопорных позах. Туго двигаются, едва ворочая головами, так же туго говорят, не перешептываясь, не смеясь, почти не глядя друг на друга и отрывисто произнося, точно обрубая, только те слова, что вписаны в текст. У всех руки и кисти точно переломлены и висят тупо и надменно. При крайнем, резко выраженном разнообразии лиц все они охвачены одним выражением: самодовольства, чванности и тупого почтения перед богатством Человека». Этот эпизод позволяет судить об основных чертах стиля драматургии Андреева. Повторение реплик создает впечатление полного автоматизма. Гости произносят одну и ту же фразу, говоря о богатстве, славе хозяина, о чести быть у него: «Как богато. Как пышно. Как светло. Какая честь. Честь. Честь. Честь». Интонация лишена переходов и полутонов. Диалог превращается в систему повторяющихся фраз, направленных в пустоту. Жесты персонажей механические. Фигуры людей обезличены,– это марионетки, раскрашенные механизмы. В диалоге, монологах, паузах подчеркнуто роковое родство человека с его постоянным, близким антагонистом – смертью, которая всегда рядом с ним, меняя только свои обличья.
Стремление показать «ступени» человеческой жизни (рождение, бедность, богатство, славу, несчастье, смерть) определило композиционное строение пьесы. Она складывается из серии обобщенных фрагментов. На такую композицию Андреева натолкнула, по его словам, картина Дюрера, на которой «фазы жизни были отделены на одном полотне рамками»[339]. Такой композиционный прием использовался также символистами в распространенных живописных сериях картин, наделенных неким универсальным смыслом в трактовке «фаз» человеческой жизни. В отличие от символистов, у Андреева нет второго, мистического плана. Писатель абстрагирует конкретность к отвлеченной сущности, создавая некую новую «условную реальность», в которой и движутся его герои-мысли, герои-сущности. Психология героя, человеческие эмоции тоже представляют собой схемы, «маски». Эмоции, чувства человека всегда контрастны. На этой идее основывается андреевская гипербола. Контрастна и обстановка драмы, ее световая и цветовая гамма.
Стремясь воплотить в пьесу общую мысль о трагедийности человеческой жизни, Андреев обращается и к традиции античной трагедии: монологи героя сочетаются с хоровыми партиями, в которых подхватывается основная тема пьесы.
«Жизни Человека» присуща неоднородность драматургического стиля Андреева. «Отдаляющая» от быта стилизация, о которой он говорил в письме Немировичу-Данченко и Станиславскому, не была выдержана. За нею проглядывали черты стандартно-мещанской драмы. Стилевой эклектизм характерен и для других пьес Андреева. Марксистская критика отметила узость социально-философских взглядов и ограниченность жизненных наблюдений писателя. Автор воплотил в «Жизни Человека» всего лишь жизнь среднего буржуазного интеллигента, возвел в понятие общечеловеческого типичные общественные и нравственные нормы буржуазного миропорядка (власти денег, стандартизацию человеческой личности, пошлость мещанского быта и т. д.).
«Черные маски» – пьеса еще более причудливо фантастическая. Ее действие развертывается в театрально-условной средневековой Италии времен крестовых походов в замке рыцаря Святого Духа герцога Лоренцо. Вновь драматург говорит о сущности человеческого бытия, вновь разрушительные иррациональные силы демонстрируют иллюзорность истин, на которых человек строит свою жизнь, обнаруживает слепоту человека, мнящего, что он может обладать какими-то знаниями о законах бытия. Лоренцо еще глубже, чем Человек из пьесы «Жизнь Человека», ввергается Андреевым в тьму полного неведения и о себе, и о мире. В основе пьесы лежит все та же мысль автора о глубочайшей дисгармонии мира.
На радостный праздник герцог Лоренцо приглашает гостей. И они приходят, но в отвратительных масках. Маски появляются на музыкантах, на звуках музыки, словах песен. И сам Лоренцо оказывается совсем не тем, каким он кажется людям и самому себе. Его происхождение, его жизнь–под маской. Прием масок приобретает в пьесе целую систему значений. Это прежде всего раздвоение человеческой личности, причем «части» ее, как личности герцога, тоже в масках. Загадочные иррациональные силы превращают задуманный Лоренцо праздник любви, красоты, гармонии в страшную мистерию раздвоения душ. В кружении масок, смещении истинного и кажущегося стираются грани между маской и лицом, здравым смыслом и сумасшествием, бытием и небытием. Все истины подвергнуты сомнению. Как и в «Жизни Человека», у персонажей пьесы нет никакого диалогического контакта с окружающими. Человек – в пустоте, которая тоже бесконечно меняет свои маски. Сценическая интерпретация этой мысли опирается у Андреева на приемы, найденные в «Жизни Человека».
В пьесе «Анатэма» берется под сомнение разумность всего существующего на земле, самой жизни. Анатэма –вечно ищущий заклятый дух, требующий от неба назвать «имя добра», «имя вечной жизни». Мир отдан во власть зла: «Все в мире хочет добра – и не знает, где найти его, все в мире хочет жизни – и встречает только смерть...» Есть ли «Разум вселенной», если жизнь не выражает его? Истинны ли любовь и справедливость? Есть ли «имя» этой разумности? Не ложь ли она? Эти вопросы задаются Андреевым в пьесе.
Судьбу и жизнь человека – бедного еврея Давида Лейзера – Анатэма бросает как камень из пращи в «гордое небо», чтобы доказать, что в мире нет и не может быть любви и справедливости.
Композиционно драма построена по образцу книги Иова. Пролог – спор Бога с Анатэмой, сатаной. Центральная часть –история подвига и смерти Давида Лейзера. Эта история явно перекликается с евангелической историей о трех искушениях Христа в пустыне – хлебом, чудом, властью. Бедный Лейзер, готовящийся к смерти, «любимый сын Бога», принимает миллионы, предложенные Анатэмой, и в безумии богатства забывает о долге перед Богом и людьми. Но Анатэма возвращает его к мысли о Боге. Давид раздает свое богатство бедноте мира. Сотворив это «чудо любви» к ближнему, он проходит через многие испытания. Люди, отчаявшиеся в жизни, страдающие и нуждающиеся, исполняются на
Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 2391;