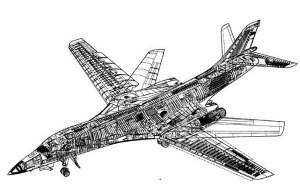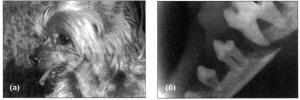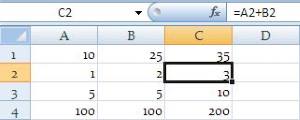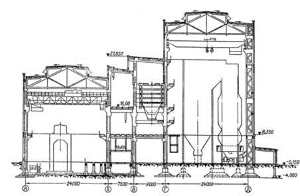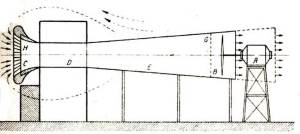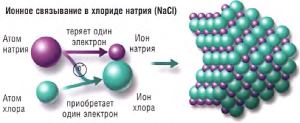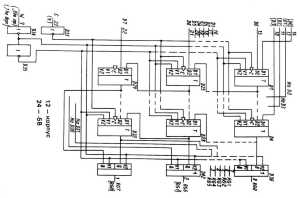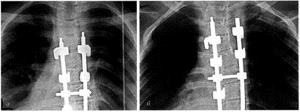АДАМОВИЧ, Г.В. ИВАНОВ
В 1910-е годы символизм как художественное течение переживает кризис. В предисловии к поэме «Возмездие» Блок писал: «...1910 год –. это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма». Вновь обострился вопрос об отношениях искусства к действительности, о значении и месте искусства в развитии русской национальной истории и культуры.
В 1910 г. в «Обществе ревнителей художественного слова» А. Блок прочитал программный доклад «О современном состоянии русского символизма», Вяч. Иванов – «Заветы символизма». В среде символистов выявились явно несовместимые взгляды на сущность и цели современного искусства; отчетливо обнаружилась внутренняя мировоззренческая противоречивость символизма. В дискуссии о символизме В. Брюсов отстаивал независимость искусства от политических и религиозных идей. Для «младосимволистов» поэтическое творчество стало религиозным и общественным действом (Вяч. Иванов мыслил его в формах «теургии» или «соборности»). Блок в это время переживал глубокий кризис мировоззрения.
Попытка Вяч. Иванова обосновать в докладе «Заветы символизма» символизм как существующее целостное мировоззрение оказалась безуспешной. Блок к 1912 г. порывает с Вяч. Ивановым, считая символизм уже не существующей школой. Оставаться в границах былых верований было нельзя, обосновать новое искусство на старой философско-эстетической почве оказалось невозможным.
В среде поэтов, стремившихся вернуть поэзию к реальной жизни из «туманов символизма», возникает кружок «Цех поэтов» (1911), во главе которого становятся Н. Гумилев и С. Городецкий. Членами «Цеха» были в основном начинающие поэты: А. Ахматова, Н. Бурлюк, Вас. Гиппиус, М. Зенкевич, Г. Иванов, Е. Кузьмина-Караваева, М. Лозинский, О. Мандельштам, Вл. Нарбут, П. Радимов. Собрания «Цеха» посещали Н. Клюев и В. Хлебников. «Цех» начал издавать сборники стихов и небольшой ежемесячный поэтический журнал «Гиперборей».
В 1912 г. на одном из собраний «Цеха» был решен вопрос об акмеизме как о новой поэтической школе. Названием этого течения подчеркивалась устремленность его приверженцев к новым вершинам искусства. Основным органом акмеистов стал журнал «Аполлон» (реД-С. Маковский), в котором публиковались литературные манифесты, теоретические статьи и стихи участников «Цеха».
Акмеизм объединил поэтов, различных по идейно-художественным установкам и литературным судьбам. В этом отношении акмеизм был, может быть, еще более неоднородным, чем символизм. Общее, что объединяло акмеистов,– поиски выхода из кризиса символизма. Однако создать целостную мировоззренческую и эстетическую систему акмеисты не смогли, да и не ставили перед собой такой задачи. Более того, отталкиваясь от символизма, они подчеркивали глубокие внутренние связи акмеизма с символизмом. «На смену символизма,– писал Н. Гумилев в статье «Наследие символизма и акмеизм» («Аполлон». 1913. № 1),– идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова acmh – высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более очного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им опросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом». Говоря об отношениях мира и человеческого сознания, Гумилев требовал «всегда помнить о непознаваемом», но только «не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками – от принцип акмеизма». Отрицательно относясь к устремленности символизма познать тайный смысл бытия (он оставался тайным и для г теизма), Гумилев декларировал «нецеломудренность» познания «не-познаваемого», «детски мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания», самоценность «мудрой и ясной» окружающей поэта действительности. Таким образом, акмеисты в области теории оставаясь на почве философского идеализма. Программа акмеистического принятия мира выражена в статье С. Городецкого «Некоторые течения i современной русской поэзии» («Аполлон». 1913. № 1): «После всяких «неприятий» мир бесповоротно принят акмеизмом, во всей совокупности красот и безобразий».
В стихотворении «Адам», опубликованном в журнале «Аполлон» Д913. № 3), С. Городецкий писал:
Прости, пленительная влага
И первоздания туман!
В прозрачном ветре больше блага
Для сотворенных к жизни стран.
Просторен мир и многозвучен,
И многоцветней радуг он,
И вот Адаму он поручен,
Изобретателю имен.
Назвать, узнать, сорвать покровы
И праздных тайн и ветхой мглы.
Вот первый подвиг. Подвиг новый –
Живой земле пропеть хвалы.
Стремясь рассеять атмосферу иррационального, освободить поэзию от «мистического тумана», акмеисты принимали весь мир – видимый звучащий, слышимый. Но этот «безоговорочно» принимаемый мир оказывался лишенным позитивного содержания. «По существу, акмеистическое жизнеутверждение было искусственной конструкцией: значимо в нем лишь отталкивание от универсальных трагических коллизий символизма, то есть своего рода капитуляция перед сложностью проблем, выдвинутых эпохой всеобщего социально-исторического кризиса»[268].
Акмеистическое течение, зародившееся в эпоху реакции, выразило присущее определенной части русской интеллигенции стремление укрыться от бурь «стенающего времени» в эстетизированную старину, «вещный» мир стилизованной современности, замкнутый круг интимных переживаний. В произведениях акмеистов – поэтов и писателей – крайне характерно разрабатывается тема прошлого, точнее – отношений прошлого, настоящего и будущего России. Их интересуют не переломные эпохи истории и духовных катаклизмов, в которых символисты искали аналогий и предвестий современности (осмысляемые, конечно, в определенном ракурсе), а эпохи бесконфликтные, которые стилизовались под идиллию гармонического человеческого общества Прошлое стилизовалось так же, как и современность. Ретроспективизм и стилизаторские тенденции свойственны в те годы и художникам «Мира Искусства» (К. Сомов, А. Бенуа, Л. Бакст, С. Судейкин и др.). Философско-эстетические взгляды художников этой группы были близки писателям-акмеистам. Порывая с традиционной проблематикой русской исторической живописи, они противопоставляли современности и ее социальным трагедиям условный мир прошлого, сотканный из мотивов ушедшей дворянско-усадебной и придворной культуры. В эпоху революции А. Бенуа писал: «...я совершенно переселился в прошлое <...> За деревьями, бронзами и вазами Версаля я как-то перестал видеть наши улицы, городовых, мясников и хулиганов»[269]. Это была программная установка на «беспроблемность» исторического мышления. Обращаясь к темам прошлого, они изображали празднества, придворные прогулки, рисовали интимно-бытовые сценки. Интерес для художников представляла «эстетика» истории, а не закономерности ее развития. Исторические полотна становились стилизованными декорациями (К. Сомов, «Осмеянный поцелуй». 1908– 1909; А. Бенуа. «Купальня маркизы». 1906; «Венецианский сад». 1910)
Характерно, что Сомов и Бенуа сами называли эти картины не историческими, а «ретроспективными». Особенность, свойственная живописи этого течения,– сознательная условная театрализация жизни. Зрителя (как и читателя, например, стихов М. Кузмина) не покидало ощущение, что перед ним не прошлое, а его инсценировка, разыгрываемая актерами. Многие сюжеты Бенуа перекликались с пасторалями и «галантными празднествами» французской живописи XVIII столетия. Такое превращение прошлого и настоящего в некую условную декорацию было свойственно и литераторам-акмеистам. Любовная тема связана уже не с прозрениями в другие миры, как у символистов; она развивается в любовную игру, жеманную и легкую. Поэтому в акмеистической поэзии так часто встречаются жанры пасторали, идиллии, маскарадной интермедии, мадригала. Признание «вещного» мира оборачивается любованием предметами (Г. Иванов. Сб. «Вереск»), поэтизацией быта патриархального прошлого [Б. Садовской (псевд.; наст. фам.– Садовский). Сб. «Полдень»]. В одной из «поэз» из сборника «Отплытие на о. Цитеру» (1912) Г. Иванов писал:
Кофейник, сахарница, блюдца,
Пять чашек с узкою каймой
На голубом подносе жмутся,
И внятен их рассказ немой:
Сначала – тоненькою кистью
Искусный мастер от руки,
тоб фон казался золотистей,
Чертил кармином завитки.
И щеки пухлые румянил,
Ресницы наводил слегка
Амуру, что стрелою ранил
Испуганного пастушка.
И вот уже омыты чашки
Горячей черною струей.
За кофием играет в шашки
Сановник важный и седой
Иль дама, улыбаясь тонко,
Жеманно потчует друзей.
Меж тем, как умная болонка
На задних лапках –служит ей...
Эти тенденции свойственны и прозе акмеистов (М. Кузмин, Б. Садовской), которая в историко-литературном смысле имеет меньшее значение, чем их поэзия.
Декоративно-пасторальная атмосфера, гедонистические настроения в поэзии акмеистов и в живописи «мирискусников» 1910-х годов сочетались с ощущением грядущей катастрофы, «заката истории», с Депрессивными настроениями. Цикл картин А. Бенуа, характерно Названный «Последние прогулки короля», определяет тема заката Жизни Людовика XIV – «короля-солнца». Слегка гротескные фигурки как бы напоминают о тщете человеческих стремлений и вечности только прекрасного. Такие настроения свойственны и литературному акмеизму.
Жажда покоя как убежища от жизненной усталости – пафос многих стихов Б. Садовского. В одном их стихотворений из сб. «Позднее утро» (1909) он писал:
Да, здесь я отдохну.
Любовь, мечты, отвага,
Вы все отравлены бореньем и тоской.
И только ты – мое единственное благо,
О всеобъемлющий, божественный покой...
В предисловии к первому сборнику стихов А. Ахматовой «Вечер» (1912) М. Кузмин писал, что в творчестве молодой поэтессы выразилась «повышенная чувствительность, к которой стремились члены обществ, обреченных на гибель». За мажорными мотивами «конквистадорских» стихов Н. Гумилева –чувство безнадежности и безысходности. Недаром с таким постоянством обращался поэт к теме смерти, в которой видел единственную правду, в то время как «жизнь бормочет ложь» (сб. «Колчан»). За программным акмеистическим жизнеутверждением стояло внутреннее депрессивное настроение. Акмеисты уходили от истории и современности, утверждая только эстетическую функцию искусства.
Некоторые акмеисты звали вернуться из символистских «миров иных» не только в современность или историческое прошлое, но и к самим потокам жизни человека и природы. М. Зенкевич писал, что первый человек на земле – Адам, «лесной зверь», и был первым акмеистом, который дал вещам их имена. Так возник вариант названия течения – адамизм. Обращаясь к самым «истокам бытия», описывая экзотических зверей, первобытную природу, переживания первобытного человека, Зенкевич размышляет о тайнах рождения жизни в стихии земных недр, эстетизирует первородство бацилл, низших организмов, зародившихся в первобытной природе («Человек», «Махайродусы», «Темное родство»). Так причудливо уживались в акмеизме и эстетское любование изысканностью культур прошлого, и эстетизация первозданного, первобытного, стихийного.
Впоследствии, оценивая историко-литературное место акмеизма в русской поэзии, С. Городецкий писал: «Нам казалось, что мы противостоим символизму. Но действительность мы видели на поверхности жизни, в любовании мертвыми вещами и на деле оказались лишь привеском к символизму...»[270].
Новизна эстетических установок акмеизма была ограниченной и в критике того времени явно преувеличена. Отталкиваясь от символизма, поэтику нового течения Гумилев определял крайне туманно. Поэтому под флагом акмеизма выступили многие поэты, не объединяемые ни мировоззренчески, ни стилевым единством, которые вскоре отошли от программ акмеизма в поисках своего, индивидуального творческого. Более того, крупнейшие поэты вступали в явное противоречие с узостью поэтической теории течения.
Но были и общие поэтические тенденции, которые объединяли художников этого течения (и «мирискусников» 1910-х годов). Складывалась некая общая ориентация на другие, чем у символистов, традиции русского и мирового искусства. Говоря об этом, В.М. Жирмунский в 1916 г. писал: «Внимание к художественному строению слов подчеркивает теперь не столько значение напевности лирических строк, их музыкальную действенность, сколько живописную, графическую четкость образов; поэзия намеков и настроений заменяется искусством точно вымеренных и взвешенных слов <...> есть возможность сближения молодой поэзии уже не с музыкальной лирикой романтиков, а с четким и сознательным искусством французского классицизма и с французским XVIII веком, эмоционально бедным, всегда рассудочно владеющим собой, но графичным и богатым многообразием и изысканностью зрительных впечатлений, линий, красок и форм»[271].
Для складывающегося акмеизма призывы от туманной символики к «прекрасной ясности» поэзии и слова не были новы. Первым высказал эти мысли несколькими годами ранее, чем возник акмеизм, Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) –поэт, прозаик, драматург, критик, творчество которого было исполнено эстетского «жизнерадостного» приятия жизни, всего земного, прославления чувственной любви. К социально-нравственным проблемам современности Кузмин был индифферентен. Как художник он сформировался в кругу деятелей «Мира Искусства», в символистских салонах, где читал свои стихи («Александрийские песни», «Куранты любви»). Наиболее значительными поэтическими сборниками Кузмина были «Сети» (1908), «Осенние озера» (1912), «Глиняные голубки» (1914). В 1910 г. в «Аполлоне» (№ 4) он напечатал свою статью «О прекрасной ясности», явившуюся предвестием поэтической теории акмеистов. В ней М. Кузмин критиковал «туманности» символизма и провозгласил ясность («кларизм») главным признаком художественности.
Основное содержание поэзии Кузмина и его излюбленные герои охарактеризованы поэтом во вступлении к циклу «Мои предки» (книга «Сети»): это «моряки старинных фамилий, влюбленные в далекие горизонты, пьющие вино в темных портах, обнимая «веселых иностранок», «франты тридцатых годов», «милые актеры без большого таланта», «экономные умные помещицы», «прелестно-глупые цветы театральных училищ, преданные с детства искусству танцев, нежно развратные, чисто порочные», все «погибшие, но живые» в душе поэта. Из столетий мировой истории, «многообразных огней» человеческой цивилизации, о «фонариках» которой с пафосом писал в стихотворении «Фонарики» Брюсов, Кузмину ближе всего оказываются не Ассирия Египет, Рим, век Данте, «большая лампа Лютера» или «сноп молний - Революция!», как для Брюсова, а «две маленькие звездочки, век суетных маркиз». Не мечта Брюсова о «грядущих огнях» истории ведет поэзию Кузмина, а «милый, хрупкий мир загадок», галантная маскарадность жеманного века маркиз с его игрой в любовь и влюбленность:
Маркиз гуляет с другом в цветнике.
У каждого левкой в руке,
А в парнике
Сквозь стекла видны ананасы. <...>
(«Разговор»)
История, ее вещественные атрибуты нужны Кузмину не ради эстетической реконструкции, как у Брюсова, не для обнаружения исторических аналогии, а в качестве декораций, интерьера, поддерживающих атмосферу маскарада, игру стилями, театрализованного обыгрывания разных форм жизни.. Игровой характер стилизаций Кузмина подчеркивается легкой авторской иронией, насмешливым скептицизмом. Поэт откровенно играет вторичностью своего восприятия мира. В этом смысле характерно стихотворение «Фудзий в блюдечке», в котором природа эстетизирована, а как бы посредником между нею и поэтом оказывается японский фарфор и русский быт:
Сквозь чайный пар я вижу гору Фудзий...
<...>
Весенний мир вместился в малом мире:
Запахнет миндалем, затрубит рог...
Мотивы лирики Кузмина непосредственно перекликались с темами и мотивами ретроспективных полотен К. Сомова, С. Судейкина и других художников «Мира Искусства». Установка на утонченность, изящество стиля переходила в манерность, характерную для поэта жеманность. Причем сам поэт (как и «мирискусники») подчеркивал условность своих стилизаций, снисходительное, ироническое к ним отношение.
А обращение Кузмина к современности выражалось в поэтизации ее «прелестных мелочей»:
Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
Далек закат, и в море слышен гулко
Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад.
<…>
Дух мелочей, прелестных и воздушных,
Любви ночей, то нежащих, то душных,
Веселой легкости бездумного житья!
Ах, верен я, далек чудес послушных,
Твоим цветам, веселая земля!
(«Где слог найду, чтоб описать прогулку...»)
Эпоху русской жизни, которую так трагически переживал Блок, Кузмин воспринимает и воспроизводит как время беззаботности, «бездумного житья», любования «цветами земли». Отмечая в творчестве Кузмина «дыхание артистичности», Блок указал и на «тривиальность» его поэзии[272].
Вырываясь из рамок этой программной тривиальности, Кузмин написал «Александрийские песни», которые вошли в историю русской поэзии. Если в своих ранних стихах Кузмин, как остроумно заметил А. Ремизов, «добирался до искуснейшего литераторства: говорить ни о чем»[273], то в «Александрийских песнях» он сумел проникнуть в дух древней культуры, ее чувств. Они отразили мастерство Кузмина в технике стихотворства, на что обращал внимание В. Брюсов.
После революции поэт переживает творческий подъем. Кузмин издает сборники «Вожатый» (1918) и «Нездешние вечера» (1921). Лучшим сборником поздних стихов Кузмина стала книга «Форель разбивает лед» (1929).
Достижения в творчестве Кузмина и других поэтов течения были связаны прежде всего с преодолением программного акмеистического тезиса о «безоговорочном» принятии мира. В этом смысле примечательны судьбы С. Городецкого и А. Ахматовой.
В свое время А. Блок назвал «Цех поэтов» «Гумилевски-Городецким обществом». Действительно, Гумилев и Городецкий были теоретиками и основателями акмеизма. Городецкий и сформулировал тезис о безоговорочном принятии мира акмеизмом. Но если Гумилев противопоставлял себя реалистическому искусству, то Городецкий (как и Ахматова) уже в ранний период своего творческого развития начинал тяготеть к реалистической поэтике. Если поэзия Гумилева носила налет Программно-рационалистический, замкнута в рамках экстравагантного мира поэта (в его стихах Блок видел «что-то холодное и иностранное»[274]), то художественная устремленность Городецкого была иной. Для Горо-децкого акмеизм–опора в неприятии иррационализма символистской поэзии. Через фольклор, литературу он тесно связан с национальной русской культурой, что впоследствии и вывело его за рамки акмеизма.
Первый сборник стихов Сергея Митрофановича Городецкого (188' 1967) «Ярь», построенный на мотивах древнеславянской языческой мифологии, появился в 1907 г. «Ярь» – книга ярких красок, с тельных стиховых ритмов. Центральная тема ее – поэтизация стихийной силы первобытного человека и мощи природы. Если поэзия Кузмина по мотивам и характеру стилизаций созвучна творчеству «мирискусников», то стихи Городецкого – полотнам Кустодиева и Васнецова. Поэтическая оригинальность сборника была сразу же отмечена критикой. Блок назвал «Ярь» «большой книгой». В том же году появилась вторая книга стихов Городецкого – «Перун».
Виртуозная ритмика, изощренная звукопись, характерные для стихов поэта, приобретали в большинстве случаев значение самоценное, что близило Городецкого модернистской формалистической поэзии. Но уже тогда в творчестве поэта пробивались реалистические тенденции в изображении современности.
Основной пафос ранней поэзии Городецкого–стремление проникнуть в тайны жизни, молодое, задорное приятие ее. Как писал С. Машинский, «это мажорное начало в стихах Городецкого, отчасти вдохновленное в нем поэзией русского фольклора, скульптурой Коненкова, живописью Рериха, графикой Билибина, музыкой Римского-Корсакова и Лядова, привлекло к себе внимание всей читающей публики»[275]. Действительно, выход «Яри» стал событием литературной жизни того времени.
В эпоху реакции мажорная тональность стихов Городецкого сменяется настроениями пессимистическими, навеянными литературой символистов, с которыми поэт активно сотрудничает и в журналах которых печатается. Выходят сборники стихотворений Городецкого: «Дикая воля» (1908), «Русь» (1910), «Ива» (1913), «Цветущий посох» (1914).
Будучи наряду с Гумилевым основателем и теоретиком акмеизма (его «вторым основоположником», по выражению Брюсова), Городецкий пошел в поэзии своим путем, глубоко отличным от пути творческого развития Гумилева. Более того, в своем поэтическом творчестве как акмеист он не проявил себя сколько-нибудь значительно и ярко-
В отличие от многих своих спутников по акмеизму, Октябрьскую революцию Городецкий принял сразу и безоговорочно. Революция обострила свойственный поэту интерес к жизни народа, русской культуре, ее гражданским традициям. До конца своих дней Городецкий оставался поэтом высокой гражданской ответственности.
Иным был творческий путь другого основателя «Цеха» – Николая Степановича Гумилева (1886–1921). В 1905 г. он опубликовал неболь-ц1ой сборник стихов «Путь конквистадоров»; в 1908 г. выходит второй сборник поэта – «Романтические цветы»; в 1910-м – «Жемчуга», книга, принесшая Гумилеву известность. Она была посвящена Брюсову. Стихи, вошедшие в этот сборник, обнаруживали явное влияние тем и стиля брюсовской поэзии. Но, в отличие от стихов Брюсова, на них лежит печать стилизации, нарочитой декоративной экзотики («Капитаны» и др.). Брюсов писал о поэзии Гумилева этого периода в «Русской мысли» (1910. № 7): она «живет в мире воображаемом и почти призрачном. Он как-то чуждается современности».
Брюсовские мифологические и исторические герои, воплощающие волевые начала истории, отразили напряженные поиски поэтом героического и нравственного идеала в современности, что предопределило сочувственное восприятие им революции. Гумилев же разорвал всякие связи своих героев–«воинов», «капитанов», «конквистадоров» – с современностью, эстетизировал их безразличие к общественным ценностям. Как подметил Н.Н. Евгеньев, при несходстве ключевых мотивов Кузмина и Гумилева (стилизованные «Куранты любви» у Кузмина, Северная Африка, «муза дальних странствий» у Гумилева), самый метод их достаточно схож. «Изысканный жираф» у озера Чад, золото, сыплющееся с «розоватых брабантских манжет», авантюрная романтика портовых таверн – все это трактовано Гумилевым в эстетском плане[276]:
Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай, далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот...
(«Озеро Чад»)
В стихотворении с характерным названием «Современность» (из цикла «Чужое небо») Гумилев так выразил свое восприятие соовременности:
Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя,
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.
Имея в виду прежде всего Гумилева, Блок писал об акмеистах, что они «не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще...»[277].
Свой эстетический идеал Гумилев декларировал в сонете «Дон Жуан»:
Моя мечта надменна и проста:
Схватить весло, поставить ногу в стремя
И обмануть медлительное время,
Всегда лобзая новые уста...
Империалистическая война побудила Гумилева обратиться к теме исторической действительности. В его поэзии зазвучала тема России, но официальной, государственной, монархической. Он воспеввает войну, героизируя ее как освободительную, народную:
И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны...
(«Война»)
В первый же месяц войны Гумилев вступает вольноопределяющимся в лейб-гвардии уланский полк и направляется в действующую армию, где служит в конной разведке. Как специальный военный корреспондент в 1915 г. в «Биржевых ведомостях» он печатает «Записки кавалериста», в которых, рисуя эпизоды военных событий, пишет о войне как деле справедливом и благородном.
В то же время в предощущении распада всей системы русского государственного быта его поэзию пронизывают пессимистические мотивы. О революции Гумилев не писал – в этом была его политическая позиция. Но не акмеистическим бесстрастием к общественной жизни отмечены теперь его стихи, а каким-то надломом души. В сборнике «Огненный столп» (1921) нет ни романтической бравады, ни напускного оптимизма. Они полны мрачной символики, туманных намеков, предощущений «непоправимой гибели». Начав с «преодоления символизма», Гумилев вернулся к типично символистской символике:
Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет...
(«Заблудившийся трамвай»)
Стихотворение «Заблудившийся трамвай» наиболее, может быть, характерно для настроений Гумилева того времени. Образ трамвая, ^шедшего с пути,– это для поэта сама жизнь, сошедшая с рельсов, дань, в которой происходит непонятное и странное:
Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет.
Поэт озабочен поисками этой «Индии Духа», прибежища.
С точки зрения поэтического мастерства стихи «Огненного столпа» – самые совершенные в творчестве Гумилева. Они исполнены подлинного чувства, глубоко драматического переживания поэтом своей судьбы, трагических предощущений.
В 1921 г. Гумилев был арестован по обвинению в участии в заговоре контрреволюционной Петроградской боевой организации, возглавляемой сенатором В.Н. Таганцевым, и расстрелян.
К. Симонов верно отметил: историю русской поэзии XX века нельзя писать, не упоминая о Гумилеве, о его стихах, критической работе (имеются в виду «Письма о русской поэзии» –литературно-критические статьи поэта, печатавшиеся с 1909 г. в «Аполлоне»), замечательных переводах, о его взаимоотношениях с Брюсовым, Блоком и другими выдающимися поэтами начала века.
С акмеистическим течением связан творческий путь Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938). На первых этапах своего творческого развития Мандельштам испытывает определенное влияние символизма. Пафос его стихов раннего периода – отречение от жизни с ее конфликтами, поэтизация камерной уединенности, безрадостной и болезненной, ощущение иллюзорности происходящего, стремление уйти в сферу изначальных представлений о мире («Только детские книги читать...», «Silentium» и др.). Приход Мандельштама к акмеизму обусловлен требованием «прекрасной ясности» и «вечности» образов. В произведениях 1910-х годов, собранных в книге «Камень» (1913), поэт создает образ «камня», из которого он «строит» здания, «архитектуру», форму своих стихов. Для Мандельштама образцы поэтического искусства – это «архитектурно обоснованное восхождение, соответственно ярусам готического собора».
В творчестве Мандельштама (как оно определилось во 2-м издании сборника «Камень», 1916) выразилось, хотя и в иных мировоззренческих и поэтических формах, чем у Гумилева, стремление уйти от трагических бурь времени во вневременное, в цивилизации и культуры прошлых веков. Поэт создает некий вторичный мир из воспринятой им истории культуры, мир, построенный на субъективных ассоциациях, через которые он пытается выразить свое отношение к современности, произвольно группируя факты истории, идеи, литературные образы («Домби и сын», «Европа», «Я не слыхал рассказов Оссиана...»). Это была форма ухода от своего «века-властелина». От стихов «Камня» веет одиночеством, «мировой туманной болью».
Говоря об этом свойстве поэзии Мандельштама, В.М. Жирмунский писал: «Пользуясь терминологией Фридриха Шлегеля, можно назвать его стихи не поэзией жизни, а «поэзией поэзии» («die Poesie der Poesie»), т. е. поэзией, имеющей своим предметом не жизнь, непосредственно воспринятую самим поэтом, а чужое художественное восприятие жизни <...> Он <...> пересказывает чужие сны, творческим синтезом воспроизводит чужое, художественно уже сложившееся восприятие жизни. Говоря его словами:
Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны...»[278] .
И далее: «Перед этим объективным миром, художественно воссозданным его воображением, поэт стоит неизменно как посторонний наблюдатель, из-за стекла смотрящий на занимательное зрелище. Для него вполне безразличны происхождение и относительная ценность воспроизводимых им художественных и поэтических культур»[279].
В акмеизме Мандельштам занимал особую позицию. Недаром А. Блок, говоря позже об акмеистах и их эпигонах, выделил из этой среды Ахматову и Мандельштама как мастеров подлинно драматической лирики. Защищая в 1910–1916 гг. эстетические «постановления» своего «Цеха», поэт уже тогда во многом расходился с Гумилевым и Городецким. Мандельштаму был чужд ницшеанский аристократизм Гумилева, программный рационализм его романтических произведений, подчиненных заданной пафосной патетике. Иным по сравнению с Гумилевым был и путь творческого развития Мандельштама. Гумилев, не сумев «преодолеть» символизм в своем творчестве, пришел в конце творческого пути к пессимистическому и чуть ли не к мистическому мировосприятию. Драматическая напряженность лирики Мандельштама выражала стремление поэта преодолеть пессимистические настроения, состояние внутренней борьбы с собой.
В годы первой мировой войны в поэзии Мандельштама звучат антивоенные и антицаристские мотивы («Дворцовая площадь», «Зверинец» и др.). Поэта волнуют такие вопросы, как место его лирики революционной современности, пути обновления и перестройки языка поэзии. Обозначаются принципиальные расхождения Мандельштама с «Цехом», мир литературной элиты, продолжавшей отгораживаться от социальной действительности.
Октябрьскую революцию Мандельштам ощущает как грандиозный перелом, как исторически новую эпоху. Но характера новой жизни не принял. В его поздних стихах звучит и трагическая тема одиночества, и жизнелюбие, и стремление стать соучастником «шума времени» («Нет, никогда, ничей я не был современник...», «Стансы», «Заблудился в небе»). В области поэтики он шел от мнимой «материальности» «Камня», как писал В.М. Жирмунский, «к поэтике сложных и абстрактных иносказаний, созвучной таким явлениям позднего символизма («постсимволизма») на Западе, как поэзия Поля Валери и французских сюрреалистов...». «Только Ахматова пошла как поэт путями открытого ею нового художественного реализма, тесно связанного с традициями русской классической поэзии...».[280]
Раннее творчество Анны Андреевны Ахматовой (псевд.; наст. фам.– I Горенко; 1889–1966) выразило многие принципы акмеистической эстетики. Но в то же время характер миропонимания Ахматовой отграничивал ее – акмеистку, на творчестве которой Гумилев строил акмеистические программы, от акмеизма. Недаром Блок назвал ее «настоящим исключением» среди акмеистов.
Вопреки акмеистическому призыву принять действительность «во всей совокупности красот и безобразий», лирика Ахматовой исполнена глубочайшего драматизма, острого ощущения непрочности, дисгармоничности бытия, приближающейся катастрофы. Именно поэтому так часты в ее стихах мотивы беды, горя, тоски, близкой смерти («Томилось сердце, не зная даже//Причины горя своего» и др.). «Голос беды» постоянно звучал в ее творчестве. Лирика Ахматовой выделялась из общественно индифферентной поэзии акмеизма и тем, что в ранних стихах поэтессы уже обозначилась, более или менее отчетливо, основная тема ее последующего творчества – тема Родины, особое, интимное чувство высокого патриотизма («Ты знаешь, я томлюсь в неволе...», 1913; «Приду туда, и отлетит томленье...», 1916; «Молитва», 1915, и др.). Логическим завершением этой темы в предоктябрьскую эпоху стало известное стихотворение, написанное осенью 1917 г.:
Мне голос был.
Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Лирика Ахматовой опиралась на достижения классической русской поэзии – творчество Пушкина, Баратынского, Тютчева, Некрасова, а из современников – творчество Блока. Ахматова на подаренном Блоку экземпляре «Четок» надписала двустишие, которое вскрывает характер связи ее раннего творчества с мотивами и образами блоковской поэзии:
От тебя приходила ко мне тревога
И уменье писать стихи.
«Блок разбудил музу Ахматовой, – пишет В. Жирмунский,– но дальше она пошла своими путями, преодолевая наследие блоковского символизма»[281].
Ощущение катастрофичности бытия, осмысляемое Блоком в историко-философском ключе, проявляется у Ахматовой в аспекте личных судеб, в формах интимных, «камерных». Диапазон тем ранней лирики Ахматовой значительно уже блоковского. Стихи ее первых книг – «Вечер» (1912), «Четки» (1914), «Белая стая» (1917)–в основном любовная лирика. Сборник «Вечер» вышел с предисловием Кузмина, усмотревшего особенности «острой и хрупкой» поэзии Ахматовой в той «повышенной чувствительности, к которой стремились члены обществ, обреченных на гибель». «Вечер» – книга сожалений, предчувствий заката (характерно само название сборника), душевных диссонансов. Здесь нет ни самоуспокоенности, ни умиротворенного, радостного и бездумного приятия жизни, декларированного Кузминым. Это –лирика несбывшихся надежд, рассеянных иллюзий любви, разочарований, «изящной печали», как сказал С. Городецкий. Сборник «Четки» открывался стихотворением «Смятение», в котором заданы основные мотивы книги:
Было душно от жгучего света,
А взгляды его – как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Наклонился – он что-то скажет...
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь.
К любовной теме стягивались все темы ее первых сборников.
Поэтическая зрелость пришла к Ахматовой после ее «встречи» со стихотворениями Ин.Ф. Анненского, у которого она восприняла искусство передачи душевных движений, оттенков психологических переживаний через бытовое и обыденное. Образ в лирике Ахматовой развертывается в конкретно-чувственных деталях, через них раскрывается основная психологическая тема стихотворений, психологические конфликты. Так возникает характерная ахматовская «вещная» символика.
Ахматовой свойственна не музыкальность стиха символистов, а логически точная передача тончайших наблю
Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 2086;