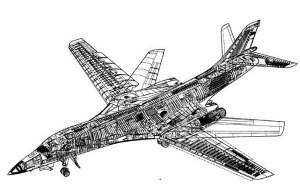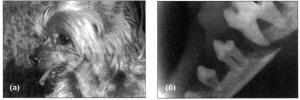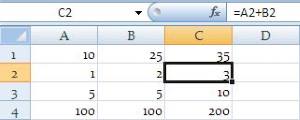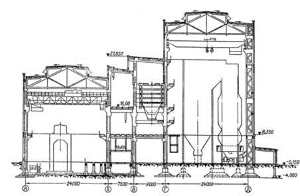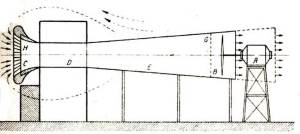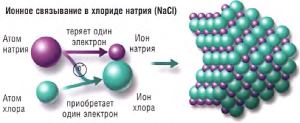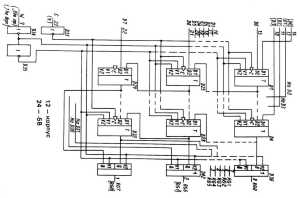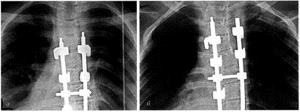Индивидуальное – универсальное
Специфика культурной ситуации, характерной для современного западного мира, находит свое концентрированное выражение в разрешении антропологического противоречия «индивидуальное – универсальное». Надо отметить, что практика конкурентной борьбы, взывающей к находчивости, чувству нового, стимулирует развитие индивидуальности, противостоит жесткой шаблонизации личности.
Интернационализация общественной жизни, преодоление национальной и региональной ограниченности в равной мере способствует росту универсальности человека на уровне индивида и на уровне рода. Однако наряду с этими тенденциями существуют и прямо противоположные им. Так, Р. Уильямс проницательно подмечает, что поведение и образ мыслей человека, вовлеченного в круговерть конкурентной борьбы, оказывается «конвенциональным и стереотипным». Указанный автор считает даже возможным говорить об «отсутствии индивидуальности» у такого человека. Он же обращает внимание на отсутствие в американской мыслительной культуре XVIII – XIX веков развитых определений личности и человеческого «я».
Такая ситуация может показаться парадоксальной лишь на первый взгляд. Более серьезный анализ убеждает, что причина стереотипности субъекта конкурентной борьбы заключается в прагматистски-индивидуалистической ограниченности целей его деятельности.
В еще большей степени ограничения в культивировании индивидуального и универсального в человеке сказываются в условиях работы в крупных корпорациях. Характер этих ограничений предельно ясен из высказывания одного из руководителей большого бизнеса, приводимого в работе У. Уайта «Человек организации»: «Нам нужен хорошо обструганный человек, умеющий обращаться с хорошо обструганным народом».
Стандартизация касается не только способов выполнения профессиональной роли, но и внутреннего мира человека. Так, по словам Манхайма, забота о карьере предписывает контроль за идеями и чувствами, которые разрешается иметь.
В результате все шире распространяется тип личности, для которого характерна утрата индивидуальности. Описывая свои впечатления от общения со служащими крупных компаний, М. Маккоби отмечал, что, говоря о самом себе, человек компании... «пытался удовлетворить любой взгляд относительно того, каким ему следует быть. В результате от его «я» не оставалось ничего, что можно было бы описать».
Для обозначения такого типа личности исследователи применяют различные термины: М. Лернер — «конформист» и «рутинер», Р. Мертон — «ритуалист – рутинер», У. Уайт — «человек организации», М. Маккоби — «человек компании», Р. Миллс — «бюрократическая личность». Разнообразие этикеток говорит о том, что фигура эта весьма заметная и узнаваемая.
Нет нужды говорить, что до предела стереотипизированная личность не может подняться до вершин человеческой универсальности. Не спасает положения и стремление вырваться из сетей конформизма за счет средств контркультуры: крайняя экстравагантность дает некоторую иллюзию обретения индивидуальности, но зато за счет потери общечеловеческого в культуре личности.
Таким образом, в разрешении противоречий личного и общественного, субъектного и объектного, материального и духовного, эмоционального и рационального, биологического и социального, индивидуального и универсального западная культура использует зачастую подходы прямо противоположного свойства, порою доходя при этом до крайности.
Вместе с тем этот динамизм дает возможность значительно развить сущностные силы человека по сравнению с предшествующими историческими типами культуры, что является предпосылкой решения проблемы их гармонического синтеза.
Эти обстоятельства играют определяющую роль в формировании характера взаимодействия и содержания различных сфер западной культуры.
Сферы культуры
Наука
На вершине иерархии в системе культуры оказывается наука. Связано это с тем, что отрасли производства, оплодотворенные наукой (через технику), дают неизмеримо большую прибыль по сравнению с теми, которые наука обходит своим вниманием. Однако в полной мере сказанное может быть отнесено лишь к классической науке. Между тем наука, как и вся культура, эволюционирует.
Так, к настоящему времени общепризнанным стало выделение двух периодов развития науки: классическая и неклассическая. В. С. Степин предлагает, и, как представляется, весьма обоснованно, различать не два, а три периода: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. Основанием периодизации являются различия в идеалах и нормах научного исследования, научная картина мира и философские принципы научной деятельности[314].
Среди идеалов и норм научного исследования В. С. Степин выделяет такую сторону науки, как ориентация ее на объект или субъект исследования. Соответственно делается констатация, что классическая наука акцентирует внимание только на объекте и выносит за скобки все, что относится к субъекту и средствам деятельности. Для неклассической науки характерна идея относительности объекта к средствам и операциям деятельности. Наконец, постнеклассическая наука «учитывает соотнесенность знаний по объекту не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности». Благодаря включению аксиологического момента в науку, ранее считавшуюся принципиально дезаксиологичной, возникает новая «гуманизированная» методология.
Может возникнуть вопрос, нет ли несоответствия между логикой развития человека и логикой истории науки. Так, говоря о развитии сущностных сил человека в капиталистическом обществе, мы констатировали, что оно шло по линии субъектное – объектное – поиски синтеза субъектного и объектного. А в науке, как нам кажется, дело происходило строго наоборот: ориентация на объект изучения, затем на субъект, и сейчас опять-таки поиски синтеза между соответствием объекту и ценностными ориентациями субъекта. Если же посмотреть глубже, можно увидеть, что расхождений между этими двумя линиями нет. Ведь ориентация классической науки на объект исследования была не чем иным, как проявлением непоколебимой веры в то, что человек — всесильный субъект познания, вполне способный разгадать замысел Божий в устроении мира. Переход к неклассической науке в этом смысле можно рассматривать как отказ человека от своей научной гордыни и приход к убеждению, что человек может познавать мир «постольку-поскольку». И, наконец, постнеклассическая наука ставит проблему синтезирования двух ранее обозначившихся тенденций: ориентации на научную объективность и включения во все элементы научной деятельности ценностного, т. е. субъектного, компонента.
Эволюция научной методологии проявлялась и проявляется не только в изменениях ориентации научной деятельности на объект или субъект, но и в других направлениях. Так, классическая наука считала для себя образцом математику и физику и соответственно математические методы. Неклассическая наука дошла до «эпистемологического анархизма», основанного на убеждении, что процесс познания — это поле приложения разнообразных творческих способностей, а, точнее, произвола познающего объекта.
Таким образом, благодаря эпистемологическому анархизму принцип индивидуализма проникает и в науку, которая при этом приравнивается к мифу и идеологии. Например, эта идея лежит в основе так называемой «сильной программы», выдвинутой американскими социологами науки Б. Барнсом и Д. Блуром. Объяснение выборов, совершаемых учеными в их профессиональной деятельности, они считали возможным «только через признание веры, на которую они якобы опираются, независимо от истинности или ложности, рациональности или иррациональности». Справедливости ради надо отметить, что крайности этой «сильной программы» критиковались даже ее сторонниками. Постнеклассическая наука старается идти по пути совмещения принципа плюрализма методов с принципом научной точности, понимаемой, впрочем, тоже совершенно по-новому. Как справедливо замечает К. А. Свасьян, «культурный космос — градация методов, каждый из которых обладает правом на самоопределение без насильственного равнения на отличников физико-математической службы»[315].
Возвращаясь к вопросу об ориентации науки на практику, с которого начинается этот раздел, следует подчеркнуть, что действительно сугубо прагматический подход к науке являлся общекультурным феноменом для нового времени. Он был свойствен и самим ученым, и философам. Примечательны в этом отношении слова Т. Гоббса: «Знание есть только путь к силе. Теоремы (которые в геометрии являются путем исследования) служат только решению проблем. И всякое умозрение в конечном счете имеет целью какое-нибудь действие или практический успех»[316].
Прагматическую направленность имела и декартова аналитическая философия. Подчеркивая это обстоятельство, В. Н. Катасонов отмечает: «Ньютон в этом смысле, несмотря на полемику с Декартом, говорит о том же: в геометрии главное п о с т р о е н и е . Декарт претендует дать своеобразный “канон” этих построений. Ньютон же предпочитает сохранить “cвободу рук”, но ориентируется при этом также на прагматику геометрии. Античное понимание геометрии переакцентируется: созерцание отодвигается на второй план. На первый план выходит ее “низшая” часть, “связанная с ремеслами”... геометрия построений»[317]. В. Н. Катасонов справедливо усматривает связь этого явления со всеми другими сторонами культуры нового времени. «Новая геометрия была неотделима от новой культуры, новой, становящейся формации, нового человека», — подчеркивает он. И далее: «Новый органон» Ф. Бекона и экспериментальный метод Г. Галилея, и “социальная инженерия” Т. Кампанеллы, и неукротимая воля драматических героев П. Корнеля — все свидетельствовало о рождении нового человека, активного, деятельного, п е р е с т р а и в а ю щ е г о мир»[318].
Неклассическая наука породила некую «фронду» ученых относительно принципа прагматизма. Именно в это время появляются высказывания вроде широко известного утверждения, что наука — это способ удовлетворить любопытство ученого за счет государства.
Постнеклассическая наука ставит проблему очищения принципа связи научной деятельности с практикой от узкого утилитаризма, в который он нередко перерождается. Это связано с необходимостью не только более широкого, гуманистического понимания практики, но и с ее действительной гуманизацией. А это явление уже выходит далеко за пределы науки.
Что касается анализа процесса развития науки нового и новейшего времени в свете культурологической категории «научная картина мира», то он даст нам очередную триаду. Так, классической науке соответствует механическая картина мира, неклассическая наука характеризуется множественностью картин мира — наряду с физической появляется биологическая, химическая и т. п. Постнеклассическая наука стремится к их синтезу и созданию единой, целостной, картины исторического развития природы, общества и самого человека. Вот это включение человека в научную картину мира является, пожалуй, наиболее ярким проявлением изменений, происходящих в современной науке: «безлюдная» картина мира становится для нее анахронизмом.
Процесс смены философских оснований науки нового и новейшего времени также триадичен: классическая наука опирается на метафизическую философию, неклассическая не только отдает должное, но и гипертрофирует принцип относительности, постнеклассическая стремится синтезировать скрупулезность анализа, который фундируется принципами метафизической философии, с гибкостью мышления, подвижностью и широтой взглядов, производными от принципа относительности.
Подводя итоги, следует сказать, что третий этап в развитии науки нового и новейшего времени, связанный с ее глубокой гуманизацией, еще только начинается, контуры новой науки пока едва обозначаются. Принцип сциентизма, заключающийся в фетишизации норм и идеалов классической науки и превращении их в общекультурные нормы, является до сих пор одним из важнейших факторов, формирующих современную культурную ситуацию в странах Запада. Это порождает напряженность во взаимоотношениях науки с другими сферами культуры.
Искусство
Антагонистом науки обычно считается искусство, что порождает эстетизм — культурный принцип, противоположный сциентизму.
Однако надо отметить, что конфронтация науки и искусства есть один из ложных путей, по которому направляются силы протеста против различных форм отчуждения. В этой ситуации науке приписываются грехи всего общества. На искусство же возлагается миссия, с которой оно справиться явно не в состоянии.
Кроме того, современное искусство само отнюдь не является царством гармонии. Красноречивым свидетельством этого может явиться анализ художественного метода, лежащего в его основании.
Главной из его типологических особенностей следует признать свободу самовыражения, доходящую до художественного анархизма, нашедшего свое предельное развитие в искусстве модернизма.
Крайности модернизма породили крайности постмодернизма, который, казалось бы, растворил человеческое «я» в потоке обезличенных объектов, преподносимых зрителю с шокирующей бесстрастностью.
Однако на самом деле произведения «фотореализма», «гиперреализма», муляжной скульптуры являются в той же мере порожденными художественным анархизмом, что и модернистские произведения, поскольку анатомически точно обрисовывая безобразные черты явлений и предметов, произвольно выхваченных из контекста, постмодернистский художник зачастую демонстрирует не только свое неприятие окружающего его мира, но и неприятие потребителя искусства, издевательское к нему отношение.
Таким образом, модернизм, в основе которого лежит гипертрофия личностного начала, и постмодернизм, задуманный, напротив, как торжество безличностного начала, на самом деле оказываются двумя сторонами одной медали — принципа индивидуализма в искусстве. Представляется, что их можно считать стилевыми вариантами одного художественного метода, для обозначения которого, быть может, есть смысл использовать термин «индивидуалистический».
Надо отметить, что взаимодействие этих двух тенденций — личностной и безличностной — уходит своими корнями в историю. Провозвестником его явилось противостояние двух направлений, оформившихся в искусстве ХIХ в., — романтизма и натурализма. Первое из них продолжило возрожденческую линию на утверждение принципа самоценности и самодостаточности человеческой личности. Второе связано с одной из парадигм прагматистской культуры — принципом «товар лицом».
Каждое из этих направлений содержало в себе два разнонаправленных вектора: один в сторону демократической культуры, в сторону критического реализма, другой — в сторону реакционного, охранительного или, наоборот, бунтарски-анархического. Вот эта последняя линия и просматривается в крайних формах модернизма и постмодернизма.
Таким образом, романтизм и натурализм, с одной стороны, и модернизм и постмодернизм — с другой обнаруживают черты идейного родства. Поэтому типологические черты западного искусства имеет смысл исследовать на материале модернизма и постмодернизма.
Художественная картина мира, как она предстает в модернистском и постмодернистском искусстве, характеризуется такими чертами, как дисгармоничность, разорванность, фрагментарность, враждебность человеку. Но есть в западном искусстве и другая картина мира: здесь царят вещи, добротные, блестящие, слепящие глаза яркими цветами.
Контрастен и образ человека в современном искусстве. С одной стороны, это отрешенный от мира мистик, с другой — супермен с крепкими мускулами и практическим складом ума. Однако нельзя не признать, что в искусстве, как и в других сферах современной западной культуры, отчетливо ощущается стремление к синтезу.
Таким образом, нельзя не отметить, что триадическая схема достаточно определенно просматривается и в развитии западного искусства. Первый период — романтизм и реализм, характеризующиеся определенностью художественной методологии и художественной картины мира, второй — модернизм и постмодернизм, раздвигающие границы свободы творчества до методологического анархизма, и, наконец, современный период — стремление к соединению методологической дисциплины с той раскрепощенностью, которую дают модернизм и постмодернизм.
Религия
Наглядное представление о внутренних коллизиях западной культуры дает анализ роли и значения в ней религии. Казалось бы, в культуре, проникнутой духом рационализма, религия, замешанная на иррациональном, может быть лишь анахронизмом. Однако вся история культуры нового и новейшего времени показывает, что религия играет в ней весьма активную роль отнюдь не рудиментарного свойства. Этот парадокс можно объяснить, указав на другую фундаментальную характеристику этой культуры, — ее прагматизм. Религия стала использоваться как освящение принципов и правил повседневной экономической деятельности.
Для выполнения этой функции существовавшие к тому времени мировые религии оказались не вполне пригодными. Вот почему на сцену вышел другой вариант религии. Им оказался протестантизм.
Один из центральных его догматов — учение об оправдании верой — содержит в себе как в куколке целый комплекс культуротворческих принципов. Так, в лютеранском его варианте он направлялся против права католического духовенства быть посредником между людьми и Богом, т. е. контролировать духовную жизнь человека.
Ответственность за взаимоотношения с Богом возлагалась на самого верующего, поскольку благосклонность Всевышнего объявлялась полностью зависящей от силы и искренности религиозного чувства субъекта веры. Это есть не что иное, как принцип индивидуализма в религиозном его обличьи. Формула Мартина Лютера «во что веришь, то и имеешь» делает мотив индивидуализма еще более отчетливым. Кроме того, в ней нельзя не усмотреть религиозной санкции на культивирование всех видов субъектности, на которую такой большой спрос предъявляла практика предпринимательской деятельности.
Однако М. Вебер в своем знаменитом труде «Протестантская этика и дух капитализма» (впервые опубликован в 1904 – 1905 гг.) высказывает мнение о том, что, несмотря на взаимосвязь между протестантизмом в целом и капитализмом, все-таки освящение принципов экономической деятельности надо искать не в лютеранской ветви протестантизма. Взгляды М. Лютера, как считает М. Вебер, еще проникнуты традиционалистскими мотивами. Хотя Лютер и призывал к труду, традиционалистски воспитанный человек интересовался не тем, может ли он разбогатеть в результате интенсивного труда, а тем, сколько ему нужно трудиться, чтобы просто просуществовать. М. Вебер считает, и, видимо, в этом с ним нельзя не согласиться, что непосредственный выход на проблему стимулирования разнообразных видов экономической деятельности получил пуританизм. Это название объединяет несколько разновидностей протестантизма, связанных между собой принципом аскетизма, — кальвинизм, пиетизм, методизм, баптизм. Сюда же относятся менонниты и квакеры. Наиболее влиятельным среди них оказался кальвинизм.
В кальвинистском варианте протестантизма определяющее значение имеет догмат об абсолютном предопределении, согласно которому никакие добрые дела не могут спасти человека от предуготованной ему участи оказаться после смерти в раю или аду. Как отмечает М. Оссовская, «активизирующая роль учения о предопределении заключалась в поощрении риска точно так же, как вера мусульманина в предопределенность минуты смерти поощряла военную доблесть»[319].
Весьма органичной частью учения Ж. Кальвина оказывается принцип мирского аскетизма, который конкретно выражался в ограничении бытовых потребностей, мелочной регламентации всех видов расходов, возведении скопидомства и скупости в ранг моральной добродетели. «Так был выработан тип буржуазно-расчетливого, хладнокровно-непреклонного жизненного поведения», — замечает по этому поводу С. С. Аверинцев[320].
М. Вебер видел несколько иные аспекты учения о предопределении. Так, он считал, что вера в предопределение ставит перед кальвинистом вопрос, является он избранным или осужденным. Ответом может служить только земное преуспевание верующего.
Стиль жизни, который складывался в соответствии с требованиями внутримирской аскезы, М. Оссовская, следуя М. Веберу, рисует следующими словами: «Богатство становится здесь наградой за примерную жизнь, обогащение — религиозно-этической миссией, п р и з- в а н и е м, причем этот специфический сплав экономики и религии получает м а с с о в о е р а с п р о с т р а н е н и е. Пуританин обогащается “помимо воли”. Труд постоянно приумножает его достояние. Ему нельзя наслаждаться жизнью, потому что он инвестирует»[321]. В то же время Кальвин учил, что «работник угоден Богу только в том случае, если он беден. Это обосновывало низкую заработную плату и греховность попыток бороться за ее повышение. Греховным стало считаться также и нищенство и вообще всяческая бедность. Бедняк не заслуживал жалости, потому что иное отношение к нему можно было бы рассматривать как роптание на волю Божью, на предопределение. Таким образом, протестантизм в его пуританском варианте “работал” на предпринимателя, обеспечивая ему «чистую совесть»[322].
Таким образом, общекультурный смысл протестантизма заключался в религиозном обосновании принципов индивидуализма и прагматизма. На их основе был дан новый вариант решения антропологических противоречий культуры, главным акцентом которого был примат личного над общественным и субъектного над объектным.
Однако при появлении протестантизма католицизм не только не сошел с исторической арены, но до сих пор остается по числу верующих самой представительной религией. Одна из причин этого заключается в некоторых его собственно культурных свойствах. Так, на уровне массового сознания большое значение имели и имеют пышность и эмоционально-эстетическая насыщенность католического культа, на уровне же теоретического сознания альянс с новой культурой был обеспечен католицизму за счет довольно сильной рационалистической струи в католическом богословии.
Вообще, надо сказать, что при капитализме нашли свое место и другие религии. Особенно это характерно для США, где с самого начала был провозглашен принцип плюрализма религий. Однако протестантская религия сыграла выдающуюся, конституирующую, роль по отношению к капитализму как общественно-экономическому строю (в его западном варианте), без нее он вряд ли мог бы утвердиться и развиваться далее. Характерно, что в США, стране классического капитализма, протестанты составляют 60% верующих.
Представление о современном положении религии в западном мире дает триадическая (что характерно!) схема Э. Фромма, согласно которой протестантизм, освящающий такие ценности, как работа, собственность, прибыль, власть и порождающий «маниакально-накопительский» социальный характер, есть первый этап в развитии религиозности на Западе в новое и новейшее время. Этому соответствует рыночный социальный характер. Второй этап религиозности Э. Фромм называет неоязычеством, поскольку он связан с идолослужением машине. И, наконец, третий этап, который только начинается, — «новый гуманизм». Главной ценностью становится сам человек, новое мировоззрение характеризуется теистическим пантеизмом или даже принимает нетеистические формы. Представляется, что идея гуманистического синтеза, лежащая в основе концепции Э. Фромма, необычайно ценна. Именно стремлением найти к нему дорогу объясняются напряженность и драматизм религиозных поисков, характерных для современной западной культуры. В этом плане, видимо, можно и нужно рассматривать тенденцию ко всякого рода синтезам между религией и другими сферами культуры, в первую очередь с наукой и искусством.
Мораль
Очень серьезной культурной основой капитализма на всех этапах его развития является соответствующим образом модифицируемая мораль. В этой области также просматривается триадическая конструкция. Так, классическому капитализму соответствует классическая буржуазная мораль, опирающаяся на протестантскую религию. Для ХХ в. характерен моральный релятивизм при очень сильной гедонистической струе, и, наконец, на современном этапе возникает неоконсервативная тенденция, в основе которой лежит требование возвратиться к определенности моральных требований, характерных для классической морали.
Протестантская мораль, если говорить о ее внешних формах, сурова и требовательна к индивиду. Трудолюбие и бережливость — таковы ее глобальные ценности. Если же говорить о ее фундаментальных принципах, то таковыми, видимо, надо признать индивидуализм, прагматизм, рационализм (разумеется, в духе формальной рациональности). Каждый из них имел и имеет свои достоинства и недостатки.
Так, индивидуалистический способ решения антропологического противоречия «личное – общественное» привел к значительному прогрессу морального сознания по сравнению со средневековьем, в частности, к появлению такой его категории, как «личное достоинство» вместо «сословная честь». Шагом вперед можно считать также и то обстоятельство, что моральное одобрение получило стремление индивида к удовлетворению личного интереса, которое полностью блокировалось культурой религиозного типа.
Однако с самого начала перед моралью возникли в этой области трудности, связанные с тем, что индивидуализм фактически оставляет без морального подкрепления деятельность, направленную на достижение общественного интереса и, кроме того, создает путаницу в моральных оценках деятельности других индивидов, построенной на той же основе, со стороны индивида, преследующего личные интересы.
В равной степени решение антропологического противоречия «субъектное – объектное» в пользу субъектного, что соответствует принципу индивидуализма, также способствовало нравственному прогрессу. Здесь он заключается в том, что в круг моральных добродетелей впервые в истории включались такие субъектные свойства человека, как инициатива, предприимчивость, самостоятельность и, как следствие этого — ответственность за свои поступки.
Однако и здесь принцип индивидуализма чреват внутренним самоотрицанием, поскольку последовательное его осуществление приводит в области практической нравственности к тому, что индивид стремится к превращению всех других людей в объекты своей деятельности и, таким образом, должен быть готов к тому, что и его будут рассматривать как объект.
Внутренняя противоречивость принципа индивидуализма в области морали в еще большей степени осложняется его связью с прагматизмом, который лишает общественный интерес в глазах индивида всякого практического смысла и дает моральное одобрение использованию человека человеком в качестве средства достижения эгоистических целей.
Пытаясь преодолеть эту трудность, уже авторы классических буржуазных этических систем И. Бентам и Дж.-ст. Милль призывали на помощь принцип рационализма: они пытались скрупулезно вычислить, сколько и чего должен делать индивид, чтобы, не поступаясь личными интересами, тем не менее увеличить «сумму общего счастья». Как нетрудно заметить, мораль как таковая в этом случае исчезает, ее успешно может заменить бухгалтерская книга. Кстати, никакой тайны из этого не делалось. Так, классический человек эпохи раннего американского капитализма, один из авторов американской демократии Б. Франклин, полагал, что мерилом добродетели человека является предоставленный ему кредит. Тот же Б. Франклин предлагал и другие, столь же тесно связанные с бухгалтерией критерии добродетели. Так, вспоминая об издававшемся им календаре, он писал: «Я заполнил все промежутки между знаменательными датами в календаре краткими изречениями и поговорками, направленными, главным образом, на внедрение трудолюбия и бережливости как средств достижения благосостояния, а тем самым о б е с п е ч е н и я д о б р од е т е л и: человеку, находящемуся в нужде, труднее всегда поступать честно. Как гласит одна из поговорок: «Пустому мешку нелегко стоять прямо». Эта мысль в разных формах встречается у Франклина неоднократно: «Кто плохо одет, тому недостает добродетели» — гласит, например, календарь на 1736 г. А вот другой афоризм из того же календаря: «В торговле нет ни друзей, ни родных». В соответствии с этим М. Оссовская справедливо отмечает, что «пуританизму не удалось совершенно замаскировать противоречие между христианским воспитанием и беспощадностью, необходимой для продвижения в обществе»[323].
Оценивая историческую роль классической буржуазной морали в целом, следует, видимо, сказать, что можно сколько угодно иронизировать по поводу мещанских форм, придаваемых ей на практике, но нельзя не признать, что требуемые ею трудолюбие, дисциплина, методичность, бережливость, умение считать, умение соблюдать деловые обязательства — это те ценности, наличие которых необходимо в системе морали общества, заинтересованного в динамичном производстве и элементарном порядке.
Вопрос о соотношении личного и общественного в плане моральных требований пуританизма тоже, вероятно, не стоит драматизировать, поскольку в конечном счете, несмотря на ориентацию этой морали на личный интерес, общественные интересы в утилитарном смысле этого слова соблюдались — развивались торговля, общественное производство, возрастала сумма общественного богатства. Но вот что касается противоречия между принципом индивидуализма и прагматизма, с одной стороны, и идеей добра в широком, гуманистическом, смысле этого слова, то классическая буржуазная мораль испытывала большие трудности.
Попытки преодолеть это противоречие предпринимались в теории морали неоднократно. Так, с интуитивистской точки зрения, наиболее полно представленной английским философом Дж. Муром, «добро неопределимо». Самое парадоксальное заключалось в том, что этот иррационалистический тезис должен был служить отправным моментом для построения рациональной системы общечеловеческих моральных норм.
Самоуничтожение этики как теории морали фактически явилось и итогом развития концепции «технологии поведения» Б. Скиннера. Он пришел к отрицанию роли моральных факторов в деятельности людей, утверждению, что перемещение внимания с этических проблем на внешние поведенческие факторы людей более эффективно с точки зрения общественных интересов.
По мере развития капитализма, наращивания общественного богатства многие из буржуазных добродетелей претерпели кардинальные изменения. Одной из первых среди них была бережливость. Как отмечал В. Зомбарт, она подверглась «деперсонализации», теперь требование быть бережливым предъявляется не отдельному человеку, а предприятию[324]. Впрочем, начинающий капиталист по-прежнему вынужден экономить именно на личных расходах, но если ему удается разбогатеть, он получает возможность тратить на себя большие суммы, а бремя бережливости переложить на предприятие. Для преуспевающего капиталиста нет резона копить деньги, ему есть смысл тратить их все до конца, во-первых, вкладывая в производство с целью получения еще большей прибыли, и, во-вторых, на личное потребление в соответствии не столько со своими действительными потребностями, сколько в соответствии со своими представлениями о престиже и со своим статусом.
Еще более крутую метаморфозу претерпело отношение буржуазной морали к проблемам секса. Список буржуазных добродетелей, которые поменяли свой знак на противоположный, можно было бы продолжить. В результате границы морального и аморального стали настолько неопределенными, что эту ситуацию, видимо, можно было бы характеризовать как моральный релятивизм с большим креном в сторону гедонизма.
И, наконец, в самое последнее время обозначился неоконсервативный поворот к прежней определенности и четкости моральных требований, в частности, к культу семьи и семейных добродетелей. Самое же замечательное в области этики и морали заключается в том, что появилась и постоянно получает все большую поддержку идея о необходимости макроэтики, включающей в себя нормы общечеловеческой морали. Например, доклад одного из ведущих философов Франкфуртской школы Карла-Отто Апеля на международной конференции в Гонолулу (август 1989 г.) так и назывался «Необходимость, очевидная сложность и конечная возможность планетарной макроэтики для человечества». В нем обращалось внимание на то, что ранее существовавшие конвенциональные макро- и мезоэтические системы (отождествляемые соответственно с клановой и государственной моралью) не в состоянии более регулировать взаимоотношения людей. «Впервые за всю историю, — говорилось в докладе, — мы живем в планетарной цивилизации, которая по крайней мере с точки зрения наиболее важных аспектов культуры (таких как наука, техника и экономика) настолько унифицировалась, что мы стали членами реальной общности, членами одной команды, находящейся на одном и том же корабле». Новая ситуация диктует необходимость осознания «коллективной ответственности», выработки «универсально значимой этики для всего человечества», которая бы признавала и защищала многоликость образов жизни (т. е. культурный плюрализм) в той мере, в какой она не противоречит интересам человечества в целом. Немецкий философ не предложил каких-либо конкретных путей выработки макроэтики, кроме одного — постоянный диалог, аргументированное обсуждение проблемы.
Дата добавления: 2021-06-28; просмотров: 536;