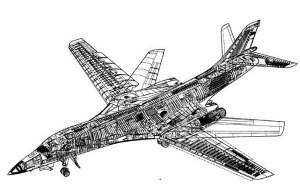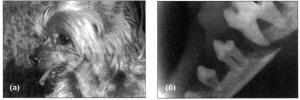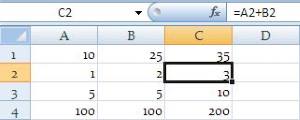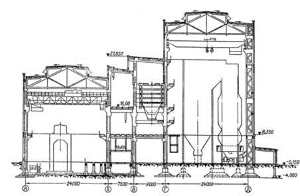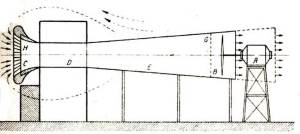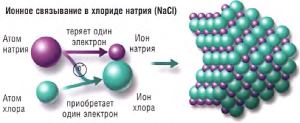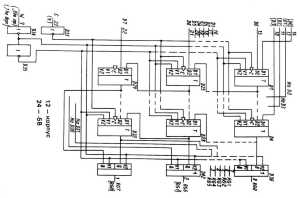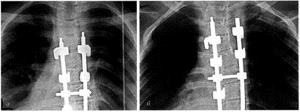Проблема человека в социальной философии и теоретико-познавательной модели русского консерватизма.
Проблема гуманизма обладает принципиальной важностью в социальной философии русского консерватизма. Сложность решения исследовательской задачи, связанной с определением системы взаимоотношений консервативной идеологии и гуманизма, осложняется наличием исследовательских лакун по данной проблеме. В современной научной литературе имеется всего лишь одна работа, специально посвященная данной теме, – кандидатская диссертация Н.В. Честнейшина «Проблема человека в социальной философии русского консерватизма»[111]. Как справедливо отмечается в данной работе, «вопрос о природе и сущности человека, его предназначении и связи с социальным целым является основным источником спора между представителями консерватизма, либерализма и радикализма»[112]. «Определение антропологической составляющей русского консерватизма, - считает автор, - позволит уточнить специфику консервативного стиля мышления, поможет более полно раскрыть сущность основных социально-философских проблем, затрагиваемых отечественными консерваторами, а также выявить значимость данного направления в современных условиях»[113].
В научной литературе прочно утвердилось представление о социоцентристском характере консервативного стиля мышления. Действительно, определенные основания для этого имеются. Хорошо известно, насколько важное значение придавали консерваторы социальным институтам: государству, нации, сословиям, корпорациям и т.д. Данные характеристики вполне применимы и к социальной философии русского консерватизма с его акцентом на анализ социальных функций «коллективных личностей».
Имеется и более радикальная точка зрения на проблему гуманизма в социальной философии русского консерватизма. В наиболее концептуализированном виде она изложена М.Ю. Чернавским: «Русское мировоззрение (в данное понятие автор вкладывает значение, тождественное термину «русский консерватизм» - Э.П.) исходит из главенства целого над частью, системы над элементом, общества над индивидом» [114].
При более пристальном анализе проблема гуманизма в идеологии русского консерватизма утрачивает привычную односложность. Мы исходим из представления об антропоцентричной характере социальной философии русского консерватизма, даже по сравнению с социальной философией либерализма.
В цитированном нами исследовании «Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика», написанном в русле марксистско-ленинской парадигмы, констатируется: «Консервативная мораль покоилась все-таки на религиозных основаниях и на долговременных местных обычаях. Консервативный патриотизм также отдавал дань заботам не о прогрессе отечества, во всяком случае не о прогрессе в первую очередь, а опять-таки доминировала установка на соблюдении традиций предков и неприятие разных заморских премудростей»[115]. Именно религиозный фактор, православное духовное ядро русской культуры предопределил важнейшие особенности теоретико-познавательной модели и социальной философии русского консерватизма. Данное обстоятельство отмечается в работе Н.В. Честнейшина: «Специфика социально-философской антропологии русского консерватизма обусловлена идейным влиянием православной богословской и философской мысли, идеологией русского самодержавия, европейской философией романтизма и консерватизма, а также культурно-историческими традициями и особенностями образа жизни народа»[116].
Характер «русского христианства» сыграл определяющую роль в разработке теоретико-познавательной модели и социальной философии русского консерватизма. Православная догматика и православное мировоззрение в корне отличалось от западной версии христианства еще до момента отпадения западного мира от тела Вселенской церкви. Поэтому уже в философских построениях «старших славянофилов» началась работа по восстановлению цельного православного мировоззрения. На начальном этапе развития консерватизма в России этой работе предшествовал анализ исторической, социальной и национальной специфики страны. Гносеология представителей предконсерватизма (кн. М.М. Щербатов, адмирал А.С. Шишков) и первого идеолога русского консерватизма Н.М. Карамзина, как представляется, находится именно в этой плоскости. Знаменитая записка «О повреждении нравов в России» князя Михаила Михайловича Щербатова (1733-1790)[117] написана в русле того консервативного стиля мышления, который К. Манхейм определяет как традиционализм. Апелляция к опыту предков, морализаторство по поводу повреждении нравственности правящего сословия, сентенции о патриархальном характере взаимоотношений помещиков и крепостных, - это составляет основу неопубликованного при жизни автора произведения князя Щербатова. Этого еще недостаточно, чтобы отнести данный труд к своду источников зрелого этапа развития консерватизма в России. Однако методология записки очень сильно напоминает приведенные К. Манхеймом примеры из раннего этапа становления германской консервативной мысли. Следует отметить, что князь Щербатов уже не был представителем традиционного общества, апологию которого он попытался создать. В его произведении трудно увидеть персоналистский мотив; скорее это апелляция к Истории, хотя еще на достаточно наивном уровне. Однако для своего времени записка кн. Щербатова отличалась новизной и большой смелостью постановки проблемы: критики не отдельных личностей (пусть и монархов), но характера общественного развития страны, заданного петровскими преобразованиями.
В работах видного политического и общественного деятеля начала XIX в. адмирала Александра Семеновича Шишкова[118] (1754-1841 появляется новый мотив: апелляция к русской национальной культуре, обоснование ее защиты от европейской (французской) культурной экспансии[119]. У Шишкова появляется и еще один мотив: религиозный, который, впрочем, носил достаточно утилитарный характер. Апелляция к религиозной сфере понадобилась адмиралу Шишкову для обоснования нации («народности») как высшей ценности, сотворенной Богом.
В «Записке о древней и новой России» Н.М. Карамзина получили развитие идеи, впоследствии положенные в основу методологии его многотомной «Истории государства Российского». Реконструируя методологию мышления Н.М. Карамзина, нетрудно убедиться, что его стержнем являлся историзм, который, как мы помним, К. Манхейм считал отличительным признаком консервативного стиля мышления. Менее заметен в методологии Карамзина религиозный компонент. Очевидно, здесь сказалось влияние воспитания и духовного развития личности Карамзина до начала его исторических штудий. Поэтому, реконструируя проблему человека в его методологии, нам необходимо обратиться к анализу характера историзма первого русского историографа.
В предыдущем разделе работы мы приводили цитату из статьи Ю.М. Лотмана, в которой была сформулирована модель исторического познания в ее либеральном варианте. Суть последнего, напомним, сводилась к оценке исторических эпох и исторических деятелей с позиций современности, точнее, с точки зрения самого историка. Тот или иной исторический персонаж «выдергивался» из родной для него событийно-временной среды, рассматривался сквозь призму современности и получал оценку по двухсложной шкале «прогрессивности-реакционности»[120]. Н.М. Карамзин, безусловно, представитель другой историографической парадигмы. Хотя и в его исторических трудах заметное место занимает морализаторство, Карамзин скорее сам выступает в роли ученика у Истории.
В характере отношения Н.М. Карамзина-историка к изучаемому предмету как ученика к учителю заключается первое принципиальное отличие его научной методологии, основанной на консервативной парадигме, от либерального подхода. Вторая отличительная черта - ее ярко выраженный персонализм.
Во вступительной статье к сборнику работ Ю.М. Лотмана о Карамзине Б.Ф. Егоров делает следующее важное замечание: «…сам Карамзин называл свою историю «поэмой», и мы с основанием видим в ней научно-художественное произведение. Художественность «Истории» достигается стройной группировкой фактов, ибо искусство всегда «стройнее» жизни, и наглядностью изложения»[121]. Автор проводит параллель с С.М. Соловьевым, чей подход отличал жестко выдержанный объективизм и сухость рационалистического анализа. С.М. Соловьев очень последовательно рассматривает историю сквозь призму осуществления в конкретном пространственно-временном измерении железного и неумолимого в силу своей фаталистичности закона исторического процесса. Роль исторических личностей хоть и признается важной, рассматривается в контексте объективной логики исторического процесса. История понимается Соловьевым в духе либерального линейного развития, восхождения от «реакционного» к «прогрессивному».
Этому торжеству научной объективности у Н.М. Карамзина противопоставляется кажущаяся ненаучность художественного постижения истории, морализм, нескрываемая эмоциональная сопричастность предмету исследования. То есть дефиниции, в русле классической парадигмы исторического познания воспринимаемые как ненаучные и антинаучные. Современный исследователь А.В. Лубский считает целесообразным пересмотр данной парадигмы, переживающей в настоящее время глубокий кризис[122].
Представляется, что «субъективный» исследовательский подход Н.М. Карамзина в итоге оказался более объективным. Жесткий объективизм и рационализм оказываются не вполне применимыми к сфере гуманитарного знания. И, напротив, наглядно-художественная методология истории Н.М. Карамзина позволяет сделать историческое изображение более объемным, увидеть в Истории Человека и Народ. Ю.М. Лотман, характеризуя суть научной методологии Карамзина, подчеркивал: «положение личности, ее достоинство… не составляло для него внешнего, второстепенного признака истории и цивилизации, а относилось к самой их сути. Поэтому вопрос о личных свойствах государственного деятеля не был для него исторически побочным»[123]. Этим «оправдывается» мнимая ненаучность «морализаторства» Карамзина-историка.
Методологию Н.М. Карамзина следует охарактеризовать как художественно-персоналистскую. Художественное осмысление истории составляет необходимое дополнение собственно научного подхода. Он позволяет увидеть в Истории явления и предметы, ранее не существовавшие для «объективной» науки: личность, мораль, субъективные верования целых эпох и народов. Французская школа Анналов оказала неоценимую услугу исторической науке, «реабилитировав» эти понятия, предложив взглянуть на историю глазами людей, которые являлись ее творцами. Как мы считаем, в этом вопросе методологические позиции французских историков и консерваторов имели общие гносеологические корни. Историзм консерваторов оказался более перспективен, чем историзм либералов.
Значение Н.М. Карамзина в реконструкции теоретико-познавательной модели русского консерватизма не исчерпывается анализом историзма. Автор записки «О древней и новой России», не являясь философом в узком значении этого слова, заложил методологическую традицию консервативного стиля мышления в России. Важное и очень неодносложное значение в гносеологии идеологической доктрины Карамзина получила проблема человека.
Хорошо известно, что Н.М. Карамзин вплоть до начала 1810-х гг. находился под влиянием прогрессистских идей философии Просвещения. Однако имеется методологический аспект, в котором разрыв Н.М. Карамзина с просвещенческими идеалами был полным и бесповоротным. И связан этот разрыв был с проблемой человека, центральной проблемой русской философии.
Просвещенческий подход к данной проблеме исходит из представления о благой природе человека[124]. Подобная трактовка природы человека не соответствует православной догматике. Позволим привести пространную цитату из вступительной статьи к сборнику работ Д.А. Хомякова, принадлежащую архиепископу (будущему первоиерарху в сане митрополита) РПЦЗ Виталию: «Во Франции Жан-Жак Руссо и все энциклопедисты, а в России Толстой, толстовцы и бесчисленные секты и их последователи незаметно проводили учение о том, что человек сам по себе по своей природе добр, хорош и не нуждается ни в каком особом исправлении. (…) Но на деле все оказалось совсем не так. По всей Франции застучали ножи гильотин, тюрьмы переполнились, а Россия заплатила за революцию шестидесятью миллионами своих сынов и дочерей и продолжает еще платить. Открылся человек во всей своей уродливой нравственной наготе. Оказалось, что человек по своей природе совсем не добр и нуждается в глубоком коренном исправлении, перерождении, иначе он испортит самые лучшие идеи, погубит наилучшие идеалы»[125].
Сходный (хотя и не целиком совпадающий) подход мы обнаруживаем и у Н.М. Карамзина. Как отмечает Ю.М. Лотман, в поздний период своего творчества «Карамзин исходит из мысли о необходимости согласования в едином общественном организме… многочисленных, враждебных друг другу людей-эгоистов»[126]. По всей видимости, корни этого скептицизма следует искать не в православной традиции, с которой Карамзин был достаточно слабо знаком. Очевидно, следует искать причину, объясняющую поворот вчерашнего масона и поклонника просвещенческой философии в формуле социального реализма, основанной на анализе духовных и социальных процессов в современной ему Западной Европе. Наше заключение подтверждает следующая цитата из статьи редактируемого Карамзиным журнала «Вестник Европы»: «Мир не для нас одних создан, а мысли и желания человека ограничиваются только его сердцем (…) Человек считает себя единственным и отдельным от других существом»[127]. Осознание этой глубокой изолированности современного «просвещенческого» человека в мире ему подобных людей-атомов стало одним поворотных пунктов, приведших Карамзина к смене мировоззренческой парадигмы. Как отмечает Ю.М. Лотман, раскрытие проблемы «человек-общество» у «зрелого» Карамзина обратно прежней методологической установке, традиционной для просвещенческого гуманизма: «Исходя из идеалистического понимания общего блага – основы прав государства – как «всегда противного частному благу» (…) Карамзин приходит к выводу:… несправедливость в отношении частного оправдана «общим», «государственным» интересом»[128].
Между тем, было бы неверным делать вывод об антигуманизме социально-политической программы Н.М. Карамзина. Ю.М. Лотман, проведя реконструкцию социально-политических взглядов Карамзина-консерватора, выделяет следующие компоненты его идеологической доктрины: «…основные требования программы… Карамзина: сохранение неограниченной монархии, отказ от государственных преобразований, пропаганда народного просвещения»[129]. Последний тезис далеко не случаен: в условиях общества, нравственно и культурно ослабленного преобразованиями Петра I и его предшественников, прежде всего сам человек нуждался в нравственном оздоровлении. Мы уже приводили следующую цитату из Карамзина: «…для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным…»[130], из которой становится очевидным, что отмене «рабского состояния» в России должна предшествовать долгая и кропотливая работа по воспитанию свободной личности. Разумеется, подобная позиция политика начала XIX столетия не может быть названа приемлемой с точки зрения «прогрессивного» человека ХХ или XXI столетия. Между тем, она целиком находится в русле методологии консервативного стиля мышления, которую реконструировал К. Манхейм: подходить к институтам государства и общества как к уникальному историческому, политическому и духовному опыту.
В приведенной выше цитате четко просматриваются различия подходов к пониманию свободы человека у Карамзина и либералов: внешней свободе либеральной парадигмы (немедленное освобождение человека от закрепощающих его внешних уз) мыслитель противопоставлял свободу внутреннюю: нравственное совершенствование человека. Политическая эмансипация человека без внутреннего его исправления лишь высвободило бы его пороки.
Приведем замечание Ю.М. Лотмана, которое тот сделал, проведя сравнительный анализ трактовки проблемы свободы человекадвумя современниками – Карамзиным и Радищевым. Автор записки «О древней и новой России», как утверждает автор, «противопоставлял бюрократии… человеческое достоинство – плод культуры, просвещенного самоуважения и внутренней свободы. Здесь начинался счет, который он предъявлял Петру I: Петр осуществил необходимую государственную реформу, но превысил полномочия государственной власти, вторгшись в сферу частной жизни, в область личного достоинства отдельного человека (…) Радищев хотел бы дополнить реформу Петра свободой личности, Карамзин – уважением человеческого достоинства. Свобода дается структурой общества, человеческое достоинство – культурой общества и личности (выделено нами – Э.П.)»[131].
В отличие от политико-прагматической направленности творчества Н.М. Карамзина для следующей генерации русских консерваторов, «старших славянофилов», был характерен акцент на историософской и религиозно-философской проблематике. На персонализм славянофильства обращал внимание прот. Г. Флоровский: «Славянофильство было движением очень сложным. Отдельные члены кружка во многом и очень чувствительно отличались друг от друга и много спорили, часто в полной непримиримости или несогласимости. Не следует все эти живые различия заслонять какой-то воображаемой средней. (…) Всего важнее здесь именно эта неповторимость лиц, живая цельность личных воззрений»[132].
Славянофильство явилось реакцией европейски просвещенного русского общества на кризис европейского просвещения. Пионером философского осмысления глубочайшего кризиса рационалистической парадигмы стал один из родоначальников славянофильства Иван Васильевич Киреевский (1804-1856). Уже в своей знаменитой статье 1832 г. «Девятнадцатый век», написанную в «западнический» период творчества, Киреевский провел критическую реконструкцию развития философской мысли в Западной Европе XVIII – начала XIX столетия. Европа, давшая высочайший и непревзойденный тип «народного просвещения», по мнению Киреевского, стала жертвой всеразъедающего рационализма[133]. Мыслитель отвергал представление о философии как о чем-то абстрактном; по его мнению, отвлеченная философия имеет непосредственное отношение к действительности. Поэтому кризис европейской рационалистической философии (католицизм Киреевский считал первой формой рационализма, из которой возникли протестантизм и безрелигиозный рационализм) имеет для него несомненное практическое выражение: «…все высокие умы Европы жалуются на теперешнее состояние нравственной апатии, на недостаток убеждений, на всеобщий эгоизм, требуют новой духовной силы вне разума, требуют новой пружины жизни вне расчета – одним словом, ищут веры и не могут найти ее у себя, ибо христианство на Западе исказилось своемыслием»[134].
Индивидуализм западного общества – тема, ставшая постоянной в творчества И.В. Киреевского-славянофила, - также объясняется все тем же рационализмом. «Весь частный и общественный быт Запада основывается на понятии о индивидуальной, отдельной независимости, предлагающей индивидуальную изолированность. Оттуда святость внешних формальных отношений, святость собственности и условных постановлений важнее личности. Каждый индивидуум – частный человек, рыцарь, князь или город – внутри своих прав есть лицо самовластное, неограниченное, само себе дающее законы»[135].
Сделанный Киреевским вывод заставил его искать «новые начала» для русской философии. Если в период подготовки статьи «Девятнадцатый век» мыслитель считал, что просвещение в России развивается по тем же принципам, что и в Европе, то в славянофильский период его взгляд на эту проблему в корне изменяется: «Начала просвещения русского совершенно отличны от тех элементов, из которых составилось просвещение народов европейских»[136]. Просвещение, под которым мыслитель-славянофил понимал характер духовного и культурного развития нации, включая философию, нуждается в новых принципах или началах. Как считал И.В. Киреевский, Россия, в отличие от Европы обладает этими началами. Связано это с различиями внутри христианского мира: «…кроме различия понятий на Востоке и Западе происходит еще различие и в самом способе мышления богословско-философском. Ибо, стремясь к истине умозрения, восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа; западные – более всего о внешней связи понятий. Восточные для достижения полноты истины ищут внутренней цельности разума (выделено нами – Э.П.): того, так сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство»[137]. В выделенном нами фрагменте из статьи Киреевского дана православная трактовка Разума, отличная не только от либерального рационалистического его понимания, но и от западного консервативного. Нельзя забывать, что консервативный стиль мышления в Западной Европе развивался на основе духовной и мыслительной традиции западного христианства, прежде всего, католичества. Славянофильская традиция православного богословствования объясняла отпадение Рима от тела Вселенской кафолической церкви (то есть Православия) именно рационализмом западного богословия, берущего начало в римском праве[138]. Консервативный стиль мышления в его западной традиции исходил из динамичной концепции Разума. Философы славянофильского направления русской мысли на основе святоотеческой православной традиции выстроили альтернативную концепцию внутренней цельности разума (И.В. Киреевский) или цельного разума (А.С. Хомяков), исходящей из принципа единения всех мыслительных, духовных и душевных качеств человеческой личности. Рационалистическое мышление понималось славянофилами лишь как отдельный мыслительный элемент.
Представляется неточной оценка соотношения веры и разума в методологии русского консервативного стиля мышления, сделанная М.Ю. Чернавским, согласно которому «Русское национальное мировоззрение утверждает приоритет веры над разумом(выделено нами – Э.П.), отрицает мировоззренческое значение научного познания, отводя решающую роль в понимании мира религиозной вере. Формы рационального постижения сути мира непригодны в качестве познавательных средств»[139]. Как мы считаем, антиномия веры и разума характерна для католической традиции, особенно для католицизма эпохи Контрреформации. В православном учении вера и разум не противостоят друг другу, а являются необходимыми компонентами познания Божественной истины. У Хомякова имеется специальный термин - «внутреннее знание», которым он предпочитал апеллировать взамен не совсем точного, по его мнению, понятия вера. В данном случае речь идет не о субъективной, пусть и искренней, убежденности (вере) человека, а именно о знании о Боге, открываемом духовным опытом человека, находящегося в общении с телом Церкви. И.В. Киреевский ввел понятия «верящий разум» или «разумеющая вера», очень удачно отображающие православное понимание соотношений веры и разума.
Центральное место в теоретико-познавательной модели славянофилов занимает проблема человеческой личности. Персонализм славянофилов, в отличие от индивидуализма либералов, обусловлен религиозным «основополагающим мотивом». Как подчеркивал «младший славянофил» Ю.Ф. Самарин, «…высокое значение, которое человек с полным правом придает своей личности, не может ни на чем другом основываться, как на идее Промысла, и не иначе может быть логически оправдано, как предположением Всемогущего Существа…»[140]. Тем самым у славянофилов ценность человеческой личности обусловлена не естественным правом, к которому апеллируют прогрессисты. В этом отношении нельзя не согласиться с точкой зрения современной исследовательницы традиции русской мысли и духовной традиции Н.А. Нарочницкой: «Провозглашение жизни как высшей ценности подрывает не только всю двухтысячелетнюю христианскую культуру, но и саму основу человеческого общежития, его простейшие формы»[141]. Провозглашение атомизированной, утратившей духовное здоровье человеческой личности высшим мерилом и высшей ценностью, действительно, противоречило бы не только религиозной традиции, но и здравому смыслу.
Славянофилы, оставаясь религиозными персоналистами, не впали в крайность безрелигиозного гуманизма, фактического обожествления человеческой природы вместе с ее «страстями» и грехами, а также стремлением к «самости», духовному и социальному одиночеству. Этот момент удачно раскрыт прот. Г. Флоровским, который отмечает, что в славянофильском учении заметно «недоверие к уединенной или обособляющейся личности… В восприятии тогдашних поколений религия опознавалась, прежде всего, именно как возврат к цельности, как собирание души, как высвобождение из того тягостного состояния внутренней разорванности и распада, которое стало страданием века»[142]. Ими (а именно, А.С. Хомяковым) введено понятие «соборности», - как мы считаем, наиболее значимое достижение богословской и социально-философской мысли. В узком понимании это понятие служило для обозначения православной антитезы римско-католической («единства без свободы») и протестантской («свобода без единства») экклесиологии. А именно: понимание Церкви как духовного организма, состоящего из всех православных верующих, а не только клира и, тем паче, «первосвященника», как в римском католицизме.
Идея соборности получила также расширительное толкование в гносеологической и социально-философской сфере. Именно в ней получил высшее развитие принцип христианского персонализма. И.В. Киреевский следующим образом объяснял это «начало»: «…в физическом мире каждое существо живет и поддерживается только разрушением других; в духовном мире созидание каждой личности созидает всех и жизнию всех дышит каждая»[143]. Персоналистский характер консервативной (православно-русской) гносеологии обосновывает А.С. Хомяков, которое Н.О. Лосский интерпретирует следующим образом: «Чтобы познать явления в их жизненной реальности, субъект должен выйти за пределы самого себя и перенестись в них «нравственною силою искренней любви». Таким образом, расширив свою жизнь посредством другой жизни, он приобретает живое знание, не отрываясь от реальности, а проникаясь ею»[144]. Идея персонализма, раскрытая славянофильской мыслью, будет впоследствии развита в художественном методе Ф.М. Достоевского. Генезис данного принципа восходит к православно-святоотеческой традиции, проявлением которой стали Вселенские соборы, на которых соборно (то есть всем православным миром, клиром и мирянами) принимались догматы Православной церкви в противоположность римско-католическому принципу непогрешимости папы, главному «законодателю» в делах веры.
Хотя идея соборности была введена славянофилами для обозначения собственного понимания принципов православной экклесиологии, сами славянофилы на ее основе разработали контуры «идеальной» модели общественного устройства, что впоследствии дало Н.А. Бердяеву повод заявить, что славянофилы путали церковь с общиной, а общину – с церковью. В центре этой модели – все та же проблема взаимоотношения личности и общества, но уже «приземленная» на почву социальной философии. И.В. Киреевский в противоположность либеральному индивидуализму и социалистическому коллективизму видел единственно возможным следующий вариант решения проблемы «человек-общество»: «…отличительный тип Русского взгляда на всякий порядок… заключается в совмещении личной самостоятельности с цельностью общего порядка…»[145]. В другом месте, рассматривая принцип общинного землепользования, он делает следующее важное замечание, раскрывающее персоналистский характер славянофильства: «В устройстве русской общественности личность есть первое основание (выделено нами – Э.П.), а право собственности только ее случайное отношение. Общине земля принадлежит потому, что община состоит из семей, состоящих из лиц, могущих землю возделывать»[146].
Вклад славянофилов в развитие теоретико-познавательной модели русского консерватизма заключается, прежде всего, в глубокой проработке им религиозно-философской проблематики. Человека они понимали не как самодостаточного индивидуума, человеческую монаду, а как самостоятельного члена духовного организма – Церкви. Но человек, отпавший от тела Церкви, порвавший нравственные связи с другими человеческими самостями, превратившийся в «уединенную или обособляющуюся личность», утрачивает свою духовную значимость. В этом принципиальное отличие персонализма консерваторов от индивидуализма либералов, априори признающих высшее значение индивидуума со всеми его пороками и эгоистичными устремлениями. Образно говоря, человек в гносеологии русских консерваторов представляет собой высшую ценность, если осознает собственное существование не для себя одного, а для целого – Церкви, Родины, общины, семьи. Человек остается Человеком, лишь сохраняя свои высшие духовные качества. Как утверждал Ф.М. Достоевский, «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна и именно - идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из одной ее вытекают»[147].
В свете вышеизложенного уже не представляется парадоксальным, что именно религиозно обусловленный персонализм привел славянофилов к неприятию либерального индивидуализма. Неприятие последнего выразилось как в тяге к Церкви, так и в стремлении к более тесному социальному «общежитию». Этот «основополагающий мотив» социальной философии русского консерватизма был выявлен прот. Г. Флоровским: «после Революции (имеется в виду революция 1789 г. во Франции – Э.П.) все чувствовали и в общественной жизни именно этот разлад и распад, размыкание и разобществление индивидуальных путей, атомизацию жизни, - чрезмерность «свободы», бесплодность «равенства», и недостаток «братства». (…) В такой очень сложной и запутанной исторической обстановке воспитывалась новая чуткость к соборному бытию Церкви, пробуждалась и воспитывалась потребность и чуткость к церковности…»[148]. В этой связи трудно согласиться с мнением М.Д. Суслова, согласно которому «Славянофильская антропология опирается на учение Шеллинга о “грехе индивидуальности”, согласно которому человек преодолеет собственное несовершенство и вернется в райские кущи, если отречется от своей личности ради соборного единения во Христе. Такое понимание проблемы переводит вопрос о совершенстве человека в социальную плоскость, в сферу правильной общественной организации, которую они видят в устройстве Московской Руси»[149]. Основанное на святоотеческой православной традиции славянофильское учение о человеке (ср. мнение В.В. Зеньковского: «Киреевский просто продолжает традиционное христианское учение о человеке»[150]) утверждало не отрицание человеческой личности во имя соборности, а утверждение этой личности путем соборности. Признавая значимость социального в славянофильской антропологии, все же следует признать приоритет за религиозной, точнее, даже экклесиологической стороной этого учения.
Крайне важное значение для анализа проблемы человека не только в идеологии русского консерватизма, но и русской философской мысли в целом имеет творчество Ф.М. Достоевского. Возникает методологическая трудность, связанная с изучением художественного творчества писателя-мыслителя, к которому неприменимы критерии исследования политической идеологии. Не вникая в литературоведческий анализ беллетристики Достоевского, тем не менее, обратим внимание на метод его художественного творчества. Представляется, что изучение этого метода в свете поставленной нами проблемы важнее, чем анализ собственно идеологических воззрений автора.
Следует обратить внимание на следующее обстоятельство: многие видные русские мыслители-консерваторы являлись художниками слова или, по терминологии того времени, беллетристами. Такие русские поэты и писатели первого ряда, как Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский были одновременно идеологами русского консерватизма. Малоизвестный сегодня как беллетрист и широко известный как философ и политический публицист К.Н. Леонтьев, являлся блестящим стилистом, великолепным мастером слова, сделанное следующее замечание: «Я… по складу ума более живописец, чем диалектик, более художник, чем философ; я – не доверяющий вообще слишком большой последовательности мысли (ибо думаю, что последовательность жизни до того извилиста и сложна, что последовательности ума никогда за ее скрытою нитью везде не поспеть…»[151]. Представляется, что высказанная Леонтьевым самооценка может быть отнесена не только к нему, а дать ценный материал к реконструкции методологии консервативного творчества в России. Как мы считаем, она выходит за рамки методологии консервативного стиля мышления в Западной Европе, реконструированной К. Манхеймом. В приведенной выше цитате можно выявить не только «динамическую концепцию разума», но также художественный метод, - то, что не составляло важной части методологии западного консерватизма.
Обратим также внимание на то обстоятельство, что именно в творчестве художников, которых следует отнести к идеологам русского консерватизма, получила наиболее глубокое раскрытие проблема человеческой личности, прежде всего, Ф.И. Тютчев и Ф.М. Достоевский.
Персоналистская направленность идеологии наиболее полно раскрывается не в отвлеченных философских схемах о человеке, а в художественном творчестве тех писателей, у которых человек является методом познания духовной и социальной действительности. В этом преимущества художественного слова по сравнению с наукой как таковой. Как отмечает известный достоевсковед Ю.Г. Кудрявцев, «Научное произведение, особенно в его высших проявлениях - законах, безличностно. Закон тем более закон, чем меньше в нем субъективного. Личность автора закона в нем не отражена. И в этом достоинство научного произведения. Наоборот обстоит дело в художественном произведении. Чем меньше отражена в нем личность автора, тем менее оно ценно. Художественное произведение всегда личностно. В науке возможны стандарты, да, в конечном счете, к ним она и стремится. Конечный результат творчества художественного ничего общего со стандартом иметь не должен»[152].
Особенность художественного метода Достоевского в том, что писатель, присутствуя в произведении, не подавляет своего героя. Это впервые было отмечено М.М. Бахтиным, который ввел понятие полифонического романа применительно к творчеству Достоевского: «Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов, действительно является основною особенностью романов Достоевского. (...) Главные герои Достоевского... не только объекты авторского слова, но и субъекты собственного непосредственно значащего слова»[153]. Роман Достоевского в интерпретации Бахтина – не какафоническая многоголосица, а хор. Голоса-сознания героев писателя – не только самостоятельны и равноценны, они еще нуждаются друг в друге. М.М. Бахтиным сделан важный «идеологический» вывод: «Один голос ничего не кончает и нечего не разрешает. Два голоса - minimum жизни, minimum бытия»[154]. Приведенная здесь цитата позволяет увидеть в художественном методе Достоевского социализированное преломление идеи соборности. В отличие от славянофилов, апеллирующих к патриархальной общине, в произведениях Достоевского действие разворачивается в условиях урбанистического города с его разорванными социальными связями. И, тем не менее, их герои, «обособленные личности», оторванные не только от Церкви, но и от органичной социальной среды – почвы, подспудно ощущают потребность в восстановле
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 525;