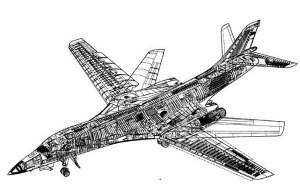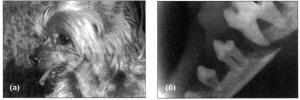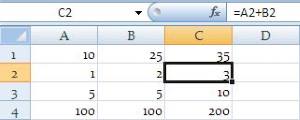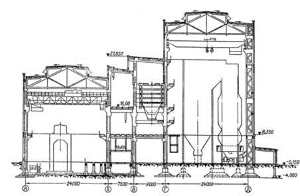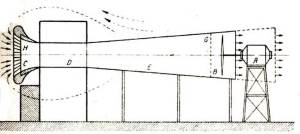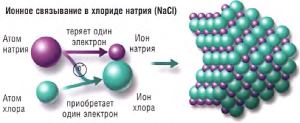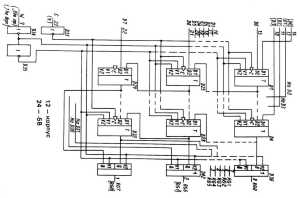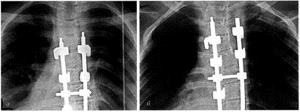Эмоциональное – рациональное, авторитарно – рациональная рациональность
Наряду с изощренными приемами умерщвления и посрамления плоти, средневековье выработало не менее изощренные приемы культивирования духа. Но духовный мир человека оказался при этом расщепленным на разум и душу, причем все внимание религии было отдано последней. Таким образом, средневековая культура оказалась не только ареной жестокой вражды духа и тела, но и в не меньшей степени рационального и эмоционального начал человеческой духовности.
Но так как, вовсе лишившись рациональности, человеческая деятельность становится невозможной как таковая, то ее не изгоняют вообще, но строго ограничивают рамками традиций, правил, предписаний, рецептов, каждый из которых освящен авторитетом религии. Это и есть то, что В. Л. Рабинович остроумно называет «авторитарно-рецептурным характером средневековой деятельности».
Термин «авторитарно-рецептурная», как представляется, может быть вообще использован для обозначения типа рациональности, характерной для средневековья. Ее основными типологическими чертами следует признать мистифицированный характер целеполагания, жесткую регламентированность деятельности, догматизм мышления. Производной от догматизма была нетерпимость к инакомыслию. В области социальной практики она порождала такие явления, как стремление во что бы то ни стало уничтожить противника физически или во всяком случае устранить его вместо того, чтобы одолеть его в споре или превзойти в конечном результате деятельности. Неотъемлемая черта средневековой рациональности — схоластичность. Тесно связана с ней и страсть к классификаторству, доходившая до курьезов.
Не менее характерно для средневековой рациональности и стремление к универсальности. Так, авторы средневековых трактатов, какой бы вопрос они ни освещали, старались вместить в свое произведение все истины священного писания, дабы не быть заподозренными в пренебрежении к одной из них. Главным способом доказательства истины являлись цитаты, ссылки на авторитеты, а не на конкретную действительность, факты.
Вместе с тем в период средневековья пышно расцветает тщательно культивируемая эмоциональность. Однако направленность этой эмоциональности обозначается официальной моралью очень строго и четко — это божественное, небесное, и в первую очередь сам Бог. «Образцовые эмоции», которые следует питать к Богу, подробно описаны в житиях святых. Здесь все оттенки любви к Богу — от благостного тихого умиления до пламенного экстаза. Оборотная сторона этих положительных эмоций — эмоции отрицательные, связанные с сознанием собственной греховности и греховности всего земного. Как те, так и другие сопровождаются яркими внешними проявлениями и особенно часто слезами.
Пылкая любовь к Богу не только не предполагала столь же пылких эмоций в адрес других людей, но, напротив, исключала их. Знаменитая христианская заповедь «возлюби ближнего как самого себя» оставалась, как и другие заповеди, чистой декларацией, поскольку себя любить не полагалось — это считалось проявлением дьявольской гордыни; кроме того, наряду с этой заповедью в христианском учении содержались прямые предписания отказаться от всех видов земной любви, в том числе от родительской любви к детям и любви детей к родителям, во имя любви к Богу.
Помехой любви к Богу считались не только все виды родственной любви, но и любовь к отечеству. «Настоящая монахиня, — говорила Екатерина Сиенская, — должна удалять от себя любовь к отечеству и память о родственниках».
Самым же неприемлемым для церкви видом любви была любовь мужчины и женщины. Поклонение Деве Марии было не чем иным, как культом отречения от земной любви. Согласно учению церкви те, кто отрекся от любви на земле, образуют на небесах, в царстве блаженных, высший хор.
Однако этот аскетический идеал отречения от любви по вполне понятным причинам не мог получить статуса всеобщего морального закона. Элементарное практическое соображение о том, что если все христиане последуют идеалу целомудрия, то род человеческий прекратится, заставило церковь пересмотреть если не концепцию любви, то во всяком случае концепцию брака: ею были установлены различные степени нравственного поведения, причем добровольное безбрачие признавалось высшим состоянием, брак же хотя и низшим, но все-таки дозволенным.
Однако это компромиссное решение не только не означало легализации земной любви хотя бы и только в форме брака, но, напротив, имело в виду ее полную аннигиляцию.
Дело в том, что общение супругов не было, согласно религиозному учению, настоящей целью брака, оно было лишь символом, причем символом весьма несовершенным, более высокого и благородного общения — общения человека с Богом.
Сверх того, брак должен был служить символом соединения Христа с церковью. Теологи совершенно откровенно признавали, что таинство брака было установлено для ограничения чувственных вожделений. И эта цель, согласно, например, Раймунду Сабунскому, достигалась через брак даже трояким образом. Во-первых, брак воспрещает человеку сношение со многими женщинами, ограничивая его одной; во-вторых, он требует, чтобы половое сношение происходило не для удовольствия, а для произведения детей, а, в-третьих, он запрещает разрывать связь с женщиной после достижения удовлетворения и требует неразрывного общения».
Однако ограниченная со всех сторон земная любовь нашла себе пристанище в той сфере, ради которой ее собственно и попирали, — в сфере религиозного чувства, которое принимало благодаря этому крайне напряженный, горячечный характер.
Насколько страстные формы принимала любовь к Христу, видно из повествования биографа Екатерины Сиенской. Однажды, рассказывает он, она «томилась» любовным желанием объятий своего небесного жениха, как безумная называла она имя Христа и восклицала: «сладчайший и возлюбленный юноша, сын Божий и Девы Марии, любимый много выше всего господин... сладкий и любимый рыцарь».
Болезненная страстность любви к Христу делала галлюцинации с явлением небесного жениха своим невестам, обручением, причем даже при свидетелях — евангелистах, апостолах — обычным явлением. Рассказами об этих событиях пестрят жития святых и другие назидательно-религиозные сочинения.
Не менее страстный характер имел и культ Девы Марии у аскетов мужского пола. В качестве обрученных с нею, они находились с нею в самом задушевном общении. «Для тебя, о Дева, — восклицал Бернард Клервосский, полный восторга от своей небесной невесты, — то же, что поцелуй, когда ты слышишь: Ave Maria, ибо сколько раз тебя им смиренно приветствуют, столько же ты, всеблаженная, получаешь поцелуев».
Исследователь средневековой культуры Г. Эйкен вполне справедливо замечает по этому поводу, что «многие легенды суть нежные любовные идиллии и по своему содержанию, как и по производимому ими впечатлению, ничем не отличаются от светской любовной поэзии»[170].
Противоположным полюсом страстной любви к Богу, принимавшей формы попранной земной любви, была столь же страстная, доходившая до дикого фанатизма, ненависть к иноверцам. «Никакой дикий зверь не бывает таким диким, как христиане, когда они разнятся друг от друга по вере», — замечает один из средневековых авторов Аммиан Марциллин”[171].
Ссылаясь на слова пророка Иеремии «проклят человек, кто удерживает меч свой от крови», церковь вела жестокие опустошительные войны. Тот же Бернард Клервосский, которого мы выше цитировали по поводу его экстатической любви к Деве Марии, проповедовал и столь же экстатическую ненависть к иноверцам. «Быть убитым или убивать ради Христа не есть преступление, а напротив величайшая слава... Смертью язычников прославляется христианин, потому что ею прославляется Христос»[172].
Дух жестокости, царивший в атмосфере религиозной культуры наряду с духом любви к Богу нашел свое выражение в судах над еретиками. Даже лета не спасали от страшной участи — по обвинению в колдовстве сжигали виновных в 11 и 15 лет. Один из светских судей, осудивший за время своей судебной деятельности в Лотарингии более 800 человек, горделиво говорит: «Мой суд был так хорош, что 16 из захваченных и представленных к суду, не дождались его и удавились».
Однако наряду с этими культурными формами, страстно отрицающими все земное во всех его проявлениях, средневековье знало и другие культурные феномены, столь же страстно утверждавшие в мире земное и противовес и даже в посрамление религиозных ценностей. Речь идет о народной культуре средневековья. Как и официальная, церковно-феодальная культура, народная культура была необычайно эмоциональной, но это были разнонаправленные эмоции. В отличие от мрачной, жестокой, болезненно-экзальтированной атмосферы официальной культуры народная культура средневековья отличалась богатством смеховых форм: справлялись праздники дураков, популярен был праздник осла и, наконец, кульминацией народной жизни был карнавал.[173]
Карнавальное действо было до предела насыщено эмоциями, но в отличие от религиозных мероприятий, здесь торжествовало все земное, представленное зачастую в нарочито огрубленных, гротескных формах.
Эмоциональная насыщенность средневековой жизни при жестком ограничении всех форм рациональности делала средневековых людей чрезвычайно легковерными. Вера в видения, чудесные исцеления, посещения людей нечистой силой были неотъемлемой частью индивидуального и общественного сознания. Люди жили в атмосфере чуда, считавшегося повседневной реальностью[174]. Все это делало средневековую толпу чрезвычайно подверженной массовым психозам.
Таким образом, культура религиозного мира во всех своих элементах и проявлениях густо насыщена эмоциями самого разного плана — от экстатической любви до дикой ненависти, от тихого умиления до всепоглощающего страха и т. п.
В связи с этим следует признать, что эмоциональный опыт средневековья при всей своей односторонности был шагом вперед по сравнению с холодной в эмоциональном отношении античностью и подготовил почву для развития внутреннего мира человека нового времени.
Дата добавления: 2021-06-28; просмотров: 618;