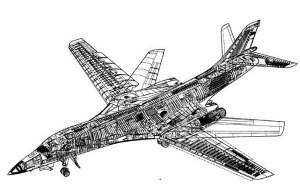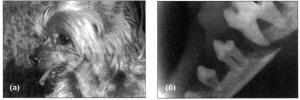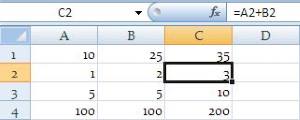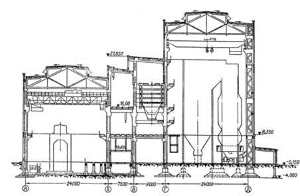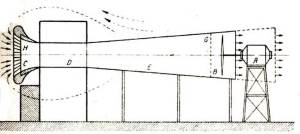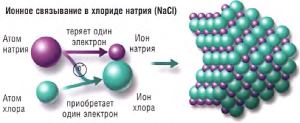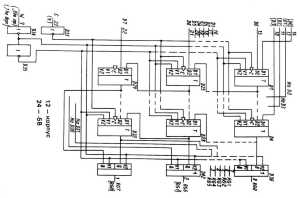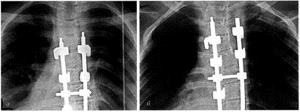Глава 39. Пост-процессуализм
1. Кембридж и Мичиган: когнитивная археология.Бихевиорная археология победила не столько тем, что вытеснила Новую (процессуальную) археологию, сколько тем, что охватила ее лидеров. Но в 1980-е годы обе они не то, чтобы совсем сошли со сцены, но ослабели и уступили лидерство пост-процессуализму. Дэвид Хёрст Томас опубликовал нашумевшую статью "Ужасная правда о статистике в археологии", где утверждал, что статистические выводы, полученые с такой затратой сил, реального значения в культуре не имеют (Thomas 1978; см. также его 1979). В основах усомнился и известный пропагандист математических методов в археологии Доран, который в статье 1986 г. признал, что математизация не оправдала возлагавшихся на нее надежд: решение проблем осталось далеким (Doran 1986). По мнению Дорана, нехватало новой теории.
Появление пост-процессуализма происходило на фоне любопытной трансформации серутанской археологии. Новый этап в биографии Ренфру – 80-е годы. Он переместился в Кембридж. В 1981 г. он стал Диснеевским профессором археологии (это особая именная ставка) в Кембридже и занял после Даниела кафедру археологии в своем родном Кембриджском университете (кембриджским профессором был 25 лет – по 2004 год, а заведовал кафедрой более десяти лет – по 1992 г.).
Инаугурационная лекция Ренфру в Кембриджском университете в ноябре 1982 г. называлась "К археологии разума", а в самой лекции этому обозначению приводился синоним – когнитивная археология, т. е. буквально "археология познания". В этом обозначении подразумевалось не археологическое познание (т. е. принципы исследования) и не ранние стадии познания (на манер "археологии познания" Мишеля Фуко – там, конечно, никакая не археология), а изучение познавательных аспектов культуры археологическими средствами, по материальным остаткам. То есть аспектов, относящихся к ментальности, психике - как раз тех аспектов, которые по "лестнице Хокса" считались наиболее труднодоступными исследованию, почти недоступными. Ренфру считал это следующим логическим шагом после освоения социальной археологии, предшествующей по "лестнице Хокса" познанию идей.
Не верили в такую возможность не только гиперскептики. Неоэволюционист Даннел считал, что подобные потуги – бесплодная трата времени, а Бинфорд, хотя и выделял среди археологических материалов "идеофакты", полагал, что заниматься такой "палеопсихологией" – вообще не дело археологов. В рецензии на сборник Ренфру и Шеннана 1982 г. "Ранжирование, ресурсы и обмен" Бинфорд обрушивается с критикой на Ходдера, участника этого сборника, но в его инвективах слышится как бы предупреждение Колину Ренфру: "Мы не должны пытаться изучать мыслительные явления. На деле мы изучаем материальные явления… Мы не находим "окаменевшие" идеи, мы находим упорядочение материала…". Ренфру и тут разошелся с Бинфордом.
Не случайно именно после инаугурационной лекции Ренфру "Каррент Аркеолоджи" поместил статью Дж. Баррета "Goodbye, New Archaeology?" (Barrett 1983).
Совершенно очевидно, инаугурационная лекция излагала программу на ближайшие годы.
Но еще в 50-е – 60-е годы в США сложилась "когнитивная антропология" (Стивен Тайлер и др.), а в 60-е годы – близкое к ней течение – "новая этнография". Задачи были схожие, но по отношению к живым народностям с первобытной культурой. Понять их психику, их классификации, структуру их понятийной системы. Задача археологов сложнее, поскольку речь идет о людях, давно умерших, а часто и язык их непонятен или неизвестен.
У самого же Ренфру этому предшествовали его занятия культовым памятником – микенским святилищем в Филакопи на Мелосе (серия статей 1978 и 1981 годов и книжка 1985 г.). Но за инаугурационной лекцией долго ничего аналогичного, методологического, не появлялось. И только в 1993 – 94 гг. вышли статья "Когнитивная археология" и (выпущенный в сотрудничестве с Э. Заброу) сборник "Древний разум: элементы когнитивной археологии".
В сборнике "Древний разум" Ренфру принадлежала статья "Археология религии" и вводная статья (ко всему тому) "К когнитивной археологии". В ней Ренфру стремился показать отличия своего подхода к "идеофактам" и символам от появившегося подхода пост-процессуалистов, которых он называл "анти-процессуалистами". Они идеалисты и уповают на интуитивное "понимание", а он материалист (хотя и не такой прямолинейный, как Бинфорд) и хочет отыскать чисто научные средства установления зависимости между материальными остатками и древними идеями. Ренфру намечал разные виды работы археологов с древними символами: 1) выявление целенаправленных структур символического поведения, 2) планирования, 3) использования символов как мер, 4) в межличностных отношениях, 5) в коммуникации со сверхъестественным миром, 6) воплощения реальности в изображениях.
На этом занятия Ренфру сей темой приостановились. Его соратник по серутанскому крылу Новой Археологии Кент Флэннери также перешел к изучению идей древнего населения – к когнитивной археологии. Ему было тем легче это сделать, что когнитивная антропология уже давно развивалась именно в США, и со второй половины 70-х годов наметились связи между когнитивной антропологией и первобытной археологией. Связи эти отмечает (в двух статьях, 1976 и 1977 гг., в журнале "Антропос") немецкий археолог Эггерт, проведший несколько лет в США.
В конце 1970-х и в 1980-е годы Флэннери обратился от "формативных" культур (неолита) к изучению народов "архаического" и "классического" периодов, то есть эпохи цивилизаций. В частности он занялся цивилизациями миштеков и сапотеков, живших в южной Мексике на самом перешейке - к западу от майя, к югу от тольтеков и ольмеков. В совместном с Джойс Маркус сборнике "Народ облаков: расходящаяся эволюция цивилизаций сапотеков и миштеков" (1983 г.) Флэннери продолжал свою установку на многолинейность эволюции. Но, в отличие от Джулиана Стюарда, он видел причины многолинейности не в природных различиях, а скорее в разном выборе возможностей при сложном системном регулировании, включающем социально-экономические и политические факторы.
Он пришел к выводу, что Чайлд слишком ограничил свое внимание производительными силами, не обращая внимания на социальные отношения и идеологию, и потому проглядел важный рубеж в эволюции. В своем докладе на Лондонской конференции 1982 г., посвященной столетнему юбилею Чайлда, Флэннери выступил с докладом о том, что революций было не две, а три. Между неолитической и городской революциями он поместил третью – "революцию рангов" (Rank Revolution), то есть революцию социально-политической стратификации. По Флэннери, в Перу и Мексике во II – I тыс. до н. э. и в первые века н. э. сложились "вождества" или "ранжированные общества". Они не отличались от предшественников способом производства, но использовали войну и грабительские рейды по соседям для сбора дани, а также поддерживали высокоразвитое ремесло.
"Их великая революция состояла не в новом способе производства пищи, а в новой идеологии, по которой вожди и рядовые общинники имели разное происхождение. Эта идеология оправдывала потребности элиты в большей производительности, удовлетворяемые людьми низшего статуса. Такие идеологии не характерны для эгалитарных обществ, которые обычно имеют уравнивающие механизмы, предохраняющие общество от разделения на элиту и рядовых" (Flannery 1994: 104).
Переходя к городской революции, Флэннери считает, что среди 10 признаков городской цивилизации, выделенных Чайлдом (густота населения, монументальные здания и т. д.), нужно убрать письменность и ввести взамен военное дело.
В 1993 г., одновременно со сборником "Древний разум" Ренфру вышла и совместная статья Флэннери и его жены Джойс Маркус "Когнитивная археология".
Эти идеи Флэннери продолжил развивать в совместной с Джойс Маркус книге "Цивилизация сапотеков: Как городские цивилизации развивались в мексиканской долине Оахака" (1997 г.). Он пишет, что главные факторы в эволюции – не те, что неподконтрольны человеку, (универсальные и неуклонные законы - именно на них делал упор Чайлд), а свободная воля человека. Это всё больше удаляет его не только от Чайлда, но и от Бинфорда, твердо приверженного детерминизму.
Таким образом, два лидера серутанского крыла Новой Археологии, оставаясь верными ее методике и некоторым принципам, в сущности, отошли от нее в тематике и некоторых важных установках. Их привлекла возможность познавать древние идеи, семантику древних образов, - возможность, изначально отвергавшаяся не только Хоксом, но и Бинфордом. Этот новый подход отчасти покоился на введенном Новой Археологией общем познавательном оптимизме, но еще больше был связан с интересом археологов к проблемам примитивного мышления и первобытной религии. Этот интерес, отразившийся в конференциях Петербургской 1991 г. и международной Лундской 2004 г., подогревался разгоревшимся общим увлечением мистикой и оккультными науками, причины чего рассмотрим далее. О Лундской конференции редактор "Антиквити" Мартин Карвер не без иронии написал:
"Современный европейский археолог уже не застенчивый статистик с "Лестницей выводов" Кристофера Хокса на стене кабинета. Находить конфигурации и тенденции прошлого и объяснять их изменениями хозяйства и социального управления – это вчерашняя задача. Нынче с Гарри Поттером мы можем смотреть тайне в глаза и говорить о ней открыто, не просто обнаруживать, во что люди верили, но и решать, не стоит ли поверить в это самим… Колдовство и магия, были, кажется, во всем" (Carver 2004: 510).
2. Приход пост-процессуализма.Просто удивительно, сколь недолговечными оказались эти сильные и экспансивные течения – Новая Археология, Бихевиорная Археология! 1960-е и 70-е годы были заполнены, оглушены и ошеломлены ими. "Новые археологи", правда, никогда не были большинством даже в Америке и Англии, но они задавали тон. Бихевиорная археология была поскромнее в своих притязаниях, но на ее сторону постепенно перешли лидеры Новой Археологии. Однако уже в 1972 г. престарелый Уолтер Тэйлор, тот самый, кого Бинфорд читал и перечитывал, откликнулся на триумфы Новой Археологии статьей "Старое вино в новых мехах" (Taylor 1972). Отметив, что основные идеи Новой Археологии он сам выдвигал уже в 40-х, он добавил, что наряду с ней развилось нечто вроде "нео-традиционализма" – археология с традиционными целями и концепциями, но работающая современной техникой и новыми методами. На следующий год Кент Флэннери подметил, что туда устремляется молодежь, и заговорил об "устарелых юнцах" (young fogeys). Это в Америке.
А в Англии в 1980-е годы в рамках самой Новой Археологии исподволь развилось течение, состоявшее из молодых людей (young fogeys), которое выступило против основных положений Новой Археологии. И выступило гораздо радикальнее, чем это делали все ее критики-традиционалисты старого закала. И возглавил их самый талантливый ученик Дэвида Кларка, его преемник по Кембриджу, Ян Ходдер. Кларк и сам не принимал некоторые положения Бинфорда, в частности его взгляд на культуру. Бинфорд отвергал "нормативную" концепцию культуры и выделение археологических культур, а Кларк строил на иерархии 'признак – тип – (археологическая) культура' всю свою концепцию. Кларк раньше и радикальнее Бинфорда перешел к теории формирования археологического источника, к отказу от убеждения в полноте археологической информации.
Его ученик Ходдер первоначально только развивал некоторые идеи своего учителя, особенно его увлечение Новой Географией. Но много спустя после смерти Кларка в работах Ходдера появились новые нотки, совсем не укладывающиеся в Новую Археологию. Он стал заполнять пробел Новой Археологии – ее сосредоточенность на материальной стороне культуры, на следах производства и поведения, ее игнорирование всего, что связано с идеями, символами. В 1982 г. его статья в сборнике Ренфру и Шеннана, как уже упоминалось, вызвала резко отрицательный отзыв Бинфорда. К середине 80-х Ходдер пришел к полному отвержению процессуализма. Он отвергал познавательный оптимизм Новой Археологии – ее убежденность, что универсальными законами можно объяснить всё многообразие культуры и истории, что возможно гипотезно-дедуктивным методом эксплицитно реконструировать прошлое.
Книги сразу же стали необычайно популярны. Приехав в начале 90-х в Англию, я обнаружил, что студенты расхватывают книги Ходдера и его учеников и взахлёб читают. В университетских библиотеках Великобритании их сочинения стоят не как все книги – на полках в хранилищах, а сразу у входа - как книги наибольшего спроса. Сменились и философские наставники археологов, их гуру – на место австрийцев Поппера, Нагеля и Витгенштейна и берлинца Гемпеля выдвинулись французы Рикёр, Ролан Барт, Лиотар, Деррида, Бурдье, Годелье, Мейасу, а из немецких философов Гуссерль, Гадамер, Хайдеггер и Адорно. Ходдер, как бы в угоду Джакетте Хокс, резко усилил гуманитарность археологии.
Его работа 1982 г. "Археологическая теория" носила дразнящий подзаголовок: "Реакционный взгляд". Поскольку выступить против новой Археологии означало противопоставить себя сильному учению, прокламировавшему себя как передовое и отвечающее современным потребностям, нужно было собрать как можно больше аргументов против Новой Археологии. С самого начала для позиции Ходдера был характерен эклектизм – всё годилось, а единой основы не было. С другой стороны, к этому оппозиционному течению потянулись самые разные группы и направления. Как выразился Стивен Майтен, "единство этой школы лежит преимущественно в том, против чего они, а не в том за что" (Mithen 1989).
Себе новое течение взяло название "пост-процессуализм" – по заголовку статьи Ходдера 1983 года. Этим названием Ходдер и его сторонники подчеркивали, что они сменяют процессуализм. Как заметил Ренфру (Renfrew 1989: 34), это не пост-процессуализм, а анти-процессуализм. "Оказалась ли археология в пост-новоархеологической эре?" – спрашивает заголовкам статьи Джон Бинтлиф в сборнике 1986 года (Bintliff 1986).
Название было удобно также тем, что закрывало проблему позитивного определения нового течения, поскольку единой основы у него не было. После процессуализма – что?
Между тем, оно было неверно по существу. Ведь на смену процессуализму пришла бихевиорная археология, которая доминировала в авангарде в 70-е, так что Ходдер и его соратники по логике должны были бы назвать свое течение пост-пост-процессуализмом.
Но пост-процессуализм (без двойного "пост-") терминологически очень гармонично вписывался в широкое идейное течение постмодернизма, археологическим ответвлением которого он был.
3. Постмодернизм против модернизма. С конца XIX века шла борьба между модернизмом и постмодернизмом. В ХХ веке в искусствах и науках общие настроения и тенденции шли в направлении усиления рациональности, технического совершенства знаний, уважения к науке, упования на нее. Функционализм, структурализм, неоэволюционизм, процессуализм, бихевиоризм – всё это были важные движения, отразившиеся в антропологии и археологии. Все они носили отпечаток того преклонения перед современной рациональностью, научностью, техничностью, которые в искусстве и культуре получили название модернизма.
Что такое модернизм? Модернизм покрывает разные сферы культуры – от искусства, прежде всего архитектуры, до наук. Он выражается в предпочтении рациональности, функциональной и практической целесообразности, внимании к рассудку и естественным наукам, которые кажутся всемогущими. Нужно размышлять правильно, искать подлинные закономерности, открывать законы в действительности, и всё будет хорошо.
Но с 70-х годов то в одной, то в другой отрасли науки и в искусстве стали возникать явления иного плана, показывающие разочарование в рациональном подходе, в современной технике, в научной объективности, в конструктивности решений.
Сложились совершенно иные склонности и предпочтения. Вместо научного объяснения – интуитивное понимание, вместо рациональности – иррациональное движение души, вместо конструктивных планов – деконструкция, вместо логики – метафора, вместо аргументов – риторика, вместо исследования – спектакль, вместо серьезной науки – откровенная игра. Географ Харви составил даже целую таблицу таких оппозиций, из которой я прочту только некоторые еще: вместо плана – случай, вместо иерархии – анархия, вместо завершенной работы – хэппенинг, вместо централизации – рассеяние, вместо смысла – риторика, и т. д.
Эти тенденции и называются постмодернизм.
Сюда вписываются другие пост-: пост-структурализм, в археологии – пост-процессуализм, а на обломках коммунистических государств, мне кажется, вырисовывается то, что можно было бы назвать пост-марксизмом: шатания между беспредельным либерализмом рыночного хозяйства и всевластием государства с его "естественными монополиями".
Так, в архитектуре конструктивизм сменяется деконструктивизмом (это более откровенное название, чем пост-конструктивизм): вместо функциональных конструкций – причудливые, свободные фантазии, пусть даже смешные. Чем меньше похоже на дом или машину для жилья (выражение конструктивиста Корбюзье), тем лучше.
В литературе – изгнать автора и уступить инициативу читателю. Неважно, что автор хотел сказать – пусть читатель вычитывает, что хочет. В журналах очень модны стали письма читателей и диалоги с ними.
В культурной антропологии и этнографии - прислушаться к голосам самих туземцев, они лучше знают свою культуру, а всё, что мы добавляем к их сообщениям, необъективно, шатко, исходит из наших предвзятых идей и нашей политической идеологии.
В археологии … Но с этим подождем.
Это всё постмодернизм как научное течение в общепринятом понимании.
Когда рациональный компонент сознания слабеет, всё иррациональное усиливается и ученый получает права для познания через интуицию. Точные науки становятся ближе к гуманитарным с ведущей ролью интуиции (синэнергетика), с философией и искусством. В научных заключениях не силлогизмы и доказательства начинают играть наиболее важную роль, а парадоксы и метафоры, так что риторика заменяет логику. Постмодернисты не думают, а схватывают. Они не доказывают, а пророчествуют.
Они любят играть словами – в своих заключениях они используют шаткие и скользкие значения и их сдвиги. Они перескакивают от одних значений к другим. Нельзя воспринимать их формулировки как точные предложения. Они всегда имеют фигуральный смысл, который и становится главным значением.
Когда автор талантлив и обладает хорошим стилем, это сплошное удовольствие читать его сочинения. Но если вы хотите опереться на них, использовать их заключения или найти в них доказательства или опровержения, - здесь удовлетворение оканчивается и одни читатели удивляются, другие негодуют. Нет смысла изумляться или впадать в гнев. Таковы правила игры.
В таких случаях постмодернисты просто не понимают, чего люди требуют от них. Они бросили новый и оригинальный свет на отжившие темы, выдвинули острые вопросы, красиво и блестяще изложили свои взгляды. Чего еще хотеть? Это слишком смутно? Слишком шатко? Слишком необоснованно? Но такова жизнь. Невозможно иначе. И неинтересно.
Когда будете читать Шэнкса и Тилли, пожалуйста, вспомните эти мои замечания.
4. Социально-экономические корни модернизма и постмодернизма. Что бы ни говорилось об узости и односторонности марксистского социально-экономического анализа истории науки, всё же выявить социально-экономические корни исторических явлений можно и нужно. Это очень многое объясняет. Да, не нужно вульгаризировать, выискивая прямые соответствия научных течений классовым силам, не нужно всё сводить к экономике, не стоит закрывать глаза на обратные воздействия идей на экономику и политику, их первичность в ряде важных процессов. Но всё же мы не сможем понять логику развития, если проигнорируем социально-экономическую обстановку этой идейной борьбы. Эта тенденция объяснения характерна сейчас не только для марксизма, хотя влияние марксизма на такой анализ несомненно.
К 60-м – началу 70-х гг. люди, жившие в это время, старшее поколение, пережили две мировые войны, волну революций и последовавшие деспотии, но развитие капитализма шло в одном направлении – усиления монополий и роли государственного регулирования. Это так наз. Фордовский капитализм. За счет этого и дешевой нефти из Третьего мира происходило не только планирование, но и создавались социальные программы помощи, чтобы умерить социальную напряженность. В Европе и Америке сложилось потребительское общество, в котором почти каждому человеку был обеспечен, по крайней мере, некоторый минимум всего необходимого для жизни.
Социальная успешность Фордовского капитализма была связана с подъемом научно-технических достижений – обретением атомной энергии, выходом в космос. Всё это породило научный оптимизм и веру в то, что мир хорошо упорядочен, организован в системы, и что законы этого мира запросто сравнимы – так что можно познавать их с помощью математизации.
Мировые войны (Первая и Вторая) пошатнули это оптимистическое настроение. Турецкая, Австро-Венгерская, Британская и Французская империи распались. За ними последовала Российско-Советская империя. Везде распад этих колоссов порождал хаос, очень болезненный для живых частиц распавшихся империй.
Это уже почувствовалось в искусствах. В них модернизм быстрее окончился, и возникли разные постмодернистские стили искусства. Но в науках и философском мышлении старые идеи еще жили. Да, некоторые русские ученые воспринимали революцию как конец света, но другие считали это чересур эгоистическим восприятием. Советский Союз привлекал вначале немало симпатий. Да, Чайлд и многие европейские интеллектуалы рассматривали нацизм как опасность для культуры, но нацизм был побежден и теперь перспективы казались безоблачными. Этому благоприятствовал общий подъем жизненных стандартов в Европе и Северной Америке.
Но с 70-х годов мир пережил ряд потрясений.
1) нефтяной кризис – резкое увеличение цен на нефть в связи с арабо-израильской войной 1973 г. и революцией 1978 г. в Иране;
2) шатания валют;
3) появление новых развитых стран (Япония, Южная Корея, и проч.), которые стали отбирать рынки и рабочие места у прежних господ положения.
Поэтому в середине 70-х годов произошла перестройка капитализма. Фордовский сменилcя пост-Фордовским. Это значит:
если в Фордовском – централизованное производство, связанное с определенными регионами и планируемое с участием государства,
то пост-Фордовский знаменовался децентрализованным производством, ориентацией на мелкие производственные центры, где дешевле рабочая сила; в итоге производство фрагментируется, теряется связь с определенными регионами; рождается “гибкое накопление”; вместо постоянного штата – работа по договорам, контракты. Большие промышленные и финансовые структуры принадлежат уже не одной семье каждая, даже не одной нации, а каждая богатая семья вкладывает свои капиталы в разные компании, повсюду в мире. Абрамович покупает "Челси".
Происходит разрушение государственных программ социальной поддержки. Это характерно для политики "железной леди" Тэтчер и президента Рейгана.
Следствие для психологии человека: индивид потерян, дезориентирован. Одинокий человек остается лицом к лицу с неожиданными ситуациями, в которых действуют далекие и невидимые силы, с которыми контакта нет. Они непредсказуемы признанными законами. Стабильность подорвана. В то же время управление отдано компьютерам, машинам и обезличено. За решениями не виден человек.
Очень примечательна новая модель культуры, которую можно найти в книге французского социолога Абраама Молля. Это модель ризомы. Культура приравнивается к сети корней гриба, в которой отдельные корни безнадежно переплетены и спутаны в мохообразный войлок.
Вера в законы общества и науки размывается. Вместо нее приходят мистика и паранаучные увлечения, а в центр смещаются те области культуры и науки, которые считались раньше маргинальными. В науке это анализ индивидуальных ситуаций, признание неустранимости роли вне-научных факторов (как идеология, политика), которые воздействуют на научные решения, а также внимание к стилю, риторике, игре.
Утеряна вера в идеологию, обещавшую нам контроль над силами, которые формировали обстановку и жизнь, которые превращали мир в систему, подчиняли жизнь познаваемым законам и правилам. Утеряна вера в серьезную науку, всё это обосновывавшую. На равных правах с нею действуют шарлантанство, мистика и ирония. Очень многое отводится не труду, а удаче, а с этим на первый план выходит азартная игра.
Всё это рассмотрено в работах Ф. Джеймсона (Jameson 1984), Ж. Ф. Лиотара (Lyotard 1984), Д. Харви (Harvey 1989) и Л. Лодена (Laudan 1990).
Насколько это убедительно, можно судить по одному обстоятельству: на пост-советское пространство постмодернизм проник только в 90-е годы – с опозданием на 20 лет. Между тем, обычно научные течения с запада, несмотря на противодействия властей, проникали в СССР очень быстро, иногда развивались параллельно там и тут. Например, структурализм – у нас был Пропп до Леви-Стросса, Лотман и Гуревич параллельно с ним.
Но с постмодернизмом было иначе. Почему? Потому что советское производство не то, чтобы походило на Фордовское, но было, так сказать, ультра-фордовским. Оно отличалось от Фордовского прежде всего тем, что в СССР была только одна монополия, один монополист, в связи с чем не было конкуренции и развития производства, была деспотическая власть и реставрация крепостнических и рабовладельческих отношений. Плановость, еще более, чем у Форда, была в полном объеме. Всё было предсказуемо до малейших деталей. Жизнь шла по правилам. Каждому рядовому человеку уделялся крохотный минимум, но он был обеспечен. А введение свободного рынка при переходе от 80-х к 90-м годам ликвидировало эту стабильность и уверенность. Индивид почувствовал себя потерянным и брошенным на произвол судьбы. Как на Западе, только с еще большим контрастом по отношению к предыдущему.
Последовал неимоверный разгул мистики, всякого рода знахарей, колдунов и шарлатанов, массовый успех которых можно сравнить только с основанием религий. В России - Джуна, Кашпировский, Чумак, баба Нюра (“Я тебе помогу” чуть ли не во всех газетах), болнарская Ванга. Вот это и оказалась готовая почва для перенесения постмодернистских течений в Россию.
Но поскольку на Западе мистики появились в самой науке до 70-х, вскоре после войны, очевидно первым стимулом для смены ориентаций в сторону от научности послужила Вторая мировая война. Она оказалась именно таким потрясением основ. Холодная война с ее иррациональной бессмысленной и недоступной разумному пониманию гонкой вооружений разрушила веру в человеческий разум. Атомная бомба может уничтожить врага. Он тоже имеет атомную бомбу, которая может уничтожить нас, а заодно и весь мир. Затем мы произвели так много бомб, что могли бы уничтожить весь мир три раза, затем тридцать три раза, и враги произвели столько же. Зачем? Ведь это за счет обнищания большей части населения. Разумные люди не могут так себя вести, разве что обезьяны. В этих обстоятельствах арабский нефтяной кризис и две империалистические войны – вьетнамская и афганистанская – совершенно разрушили оптимистическую оценку экономических и политических успехов человеческого интеллекта и международной организации.
Сказались, вероятно, и другие факторы:
а) ожидания от немедленной замены основных функций мозга искусственным интеллектом компьютеров не оправдались;
б) наука перестала быть элитной, стала массовой профессией – все становятся учеными, авторитет науки понижается вместе с ее недоступностью;
в) сложились плюралистические принципы, многие ценности равноправны – наука, религия, мистика, мистификация, игра – всё позволено высказывать и отстаивать.
5. Мистицизм как прелюдия и предзнаменование. В культуре и в частности в антропологии повальное увлечение мистикой появилось задолго до 70-х. Причем коль скоро этнографы близко сотрудничают с первобытными колдунами, это выглядело как заражение, инфекция.
Началось во Франции. Глава французской этнографической школы и автор учебника, бывший летчик и опытный африканист Марсель Гриоль (Griaule, 1898 – 1956), всю жизнь работал в духе дескриптивизма и собрал огромный материал. Монография о догонах "Маски догонов" стала его докторской диссертацией. Он стал профессором Сорбонны и заведующим кафедрой этнологии. Но описав материал, он остановился перед объяснительными задачами. В 1947 г. он вдохновился объяснениями, которые ему давали сами догоны. Раньше он вел опрос информантов энергично, хитро, наступательно, как допрос – они ведь уклоняются от неудобных вопросов, лгут, сочиняют. Но вот он был посвящен в таинства догонов и 33 дня проходил обучение у мага Оготеммели (описано в книге "Бог воды" - Griaule 1948: Dieu d’eau). С 1950 г. он сам стал учеником, а Оготеммели учителем. Стратегия Гриоля в этнографии изменилась – не выдавливать информацию как бы насильственно, а получать откровение. В этой “живой мифологии”, в “метафизике” догонов он увидел ключ к пониманию Африки. Даже после его смерти в 1956 г. его школа продолжала выпускать его труды и труды учеников (1965) с мифологическими объяснениями космоса и туземной теорией языка.
В 1961 г. еще более откровенный перелет в мистику совершил мексиканский этнограф Карлос Кастанеда (Carlos Castaneda). Собирая материал для этно-фармакологической диссертации, он уверовал в тайное учение дона Хуана Матуса из мексиканского племени яки. Натерся “чортовым корнем” – галлюциногенного кактуса пейот.
“Мои ноги стали резиновыми и удлинились, стали чрезвычайно длинными… Я взглянул вниз и увидел дона Хуана далеко внизу подо мной… Я прыгнул назад и заскользил на спине. Я увидел темное небо надо мной, а облака я оставил подо мной. .. Скорость моя была чрезвычайной” (Castaneda 1970/72: 125). И т. д.
Вернувшись, он спросил дона Хуана, где было его тело во время полета. В кустах, ответил тот. Значит, я летал только в своем представлении? Нет. А если я прикую свое тело к скале цепью? “Боюсь, тебе придется лететь со скалой, висящей на тяжелой цепи”, – ответил дон Хуан. Дон Хуан развернул целое учение о “втором внимании”, “вратах в бесконечность”, “точке сборки” и проч.
Всё это Кастанеда излагает в четырех книгах, пользующихся бешеным успехом: Их содержание пересказывал мне с горящими глазами один студент за столиком в столовой Университета в Петербурге. Между тем, как-то дон Хуан сказал Карлосу: “Я играю очень искренне, но ведь это всего лишь игра, как в театре”.
В конце 60х – начале 70-х американскому этнологу Барбаре Майергоф (Meierhoff) шаман племени гвичолов мараакам Рамон Медина Сильва дал поесть растение пейотль. Она увидела себя сидящей на огромном дереве, корни которого уходили вниз в землю, а крона – в небо. Это было Древо Жизни. Потом она увидела птицу, вертящуюся от возбуждения, получеловека-полупопугая. Это был Рамон как носитель душ. Барбара задала ему вопрос, который уже месяц не уходил из ее головы: “Что означают мифы?” Он ответил: “Мифы не означают ничего. Они означают сами себя…”. Это из ее книги “Охота Пейот” (Myerhoff 1974: 42).
Всё это мистика. Для мистики характерна неизреченность (невозможность изложить суть ясными словами), интуитивность, индивидуальность (истина не всем открывается), вера в тайные силы. Мистики появлялись в цивилизованном мире и раньше: Якоб Бёме, Эммануэль Сведенборг, Рудольф Штейнер, в России Татьяна Блаватская (1831 - 1891), Николай Рерих (1874 - 1947). Временами даже у антропологов можно было отметить склонность к мистике – у Карла Юнга, Тейара де Шарден, Мирчи Элиаде, в циклизме это заметный оттенок (у Шпенглера, Сорокина, Гумилева). Но в профессиональной среде антропологов и этнографов не появлялось людей, полностью отданных этому. И вот теперь это стало входить в культурную антропологию и археологию не отдельными нитями среди других (как в циклизме), а как целое направление – это было предзнаменование пост-модернизмa.
В русской археологии вы увидите мистическую струю в писаниях Льва Николаевича Гумилева с его космическими лучами, определяющими рождение пассионариев, в произведениях Дмитрия Алексеевича Мачинского и Глеба Сергеевича Лебедева. Особенно в поздних сочинениях Лебедева о Петербурге и Балтике, где случайные созвучия имен и совпадения событий приобретают определяющее значение в истории.
На Западе развилось целое направление – психическая археология. Это книги, в которых познание прошлого производится не логической реконструкцией, а сверхъестественным проникновением в психику умерших культур, общением с миром мертвых через манипулирование артефактами. Таковы, например, вышедшие в Америке книжки Джефри Гудмена "Психическая археология. Машина времени к прошлому" (1977 г.) и Дэвида Джоунса из Флоридского технического университета "Видения времени" (1979 г.). У нас сюда относится мистическая литература о кавказских мегалитах и свистопляска вокруг Аркаима.
6. Идейные корни:По ссылкам пост-модернистских авторов нетрудно проследить, что у них появились совершенно новые учителя, к которым они относятся как к гуру. Эти новые гуру, уже названные мною, прославились проповедью философских и культурно-социальных учений, принижавших науку и возвышавших гуманитарное знание, интуицию и политическое сознание.
а) феноменология.Основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль (Husserl, 1859 - 1938), затевая свои “Логические исследования” собственно ставил перед собой цель создать строгую науку о науке – построить философию именно как такую строгую науку. Он ставил вопрос об объективности познания. Эту задачу он задумал решить с помощью "феноменологической редукции" – то есть свести знание к чистым явлениям (феноменам), освободив его от наслоений, привнесенных традицией, философскими интерпретациями. Но этот мир феноменов тесно связан с сознанием исследователя, его направленностью и структурой. Самые же глубинные истины мы не можем доказать и подтвердить или опровергнуть, считал он. Мы в них можем только верить или не верить. Подвергнув критике объективизм позитивистов всех сортов он пришел к выводу: надо придать верованиям, сознанию, очевидностям опыта большее значение чем истинам науки.
Тем самым был дан сигнал критике науки и разума. (Субъективно он считал, что обосновал рационализм нового типа. Это уже его ассистент Хайдеггер разработал психологию иррационализма). Гуссерль хотел изгнать мировоззрение из предпосылок, это и была задача его редукции – искоренить искажающие факторы и направить познание на само сознание, изучать “поток сознания”. Исходить из того, что сущность, родовые качества важнее, чем факты, чем реальность. Структурные элементы этого потока сознания – тоже “феномены”, данности сознания (отсюда феноменология – как учение о структуре сознания).
(Как можно видеть, кое-что из этой доктрины было воспринято Леви-Стросом.)
Рассмотреть же феномен можно только если его схватить в интуитивном акте, не описывая извне, а “переживая”. Работать методом “прямой интуиции”. Это в принципе противостоит расчленяющему дедуктивному методу естественных наук.
Из феноменологии постпроцессуализм взял свое критическое отношение к притязаниям Новой Археологии на полную объективность и на статус науки. Но ссылаются постпроцессуалисты обычно не на Гуссерля, а на его ученика Мартина Хайдеггера.
б) герменевтика.Название от бога Гермеса – бога хитрости и задних мыслей. Родилась из теологии и просветительского желания освободиться от предвзятости. Основатель ранней герменевтики Фридрих Шлейермахер (Schleiermacher, перв. пол. XIX в.) разрабатывал приемы интерпретации текста – как войти в позицию автора, овладеть его языком и психологией. Историк Густав Дройзен, как и фило
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 467;