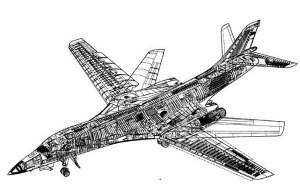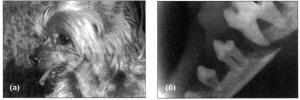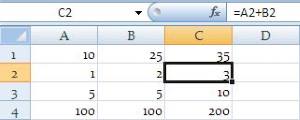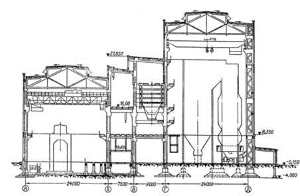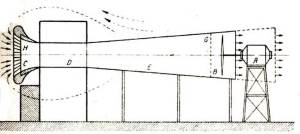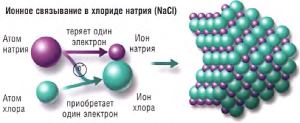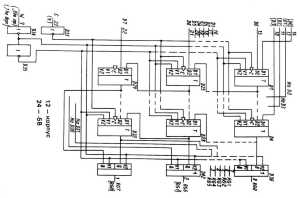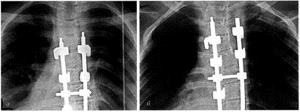Роман «Люцинда». Новалис: «Гимны к ночи». «Генрих фон Офтердинген». Тема ночи и сна.
Йенский кружок немецких романтиков. Переводы Августа Вильгельма фон Шлегеля. Литературная деятельность Фридриха Шлегеля.
Роман «Люцинда». Новалис: «Гимны к ночи». «Генрих фон Офтердинген». Тема ночи и сна.
Йенский кружок немецких романтиков.Ну, а теперь завершив разговор об основных положениях теории немецкого романтизма, мы переходим к разговору о творцах этой теории, мы будем говорить о Йенском кружке немецких романтиков.
Итак, в Йене в 1996-98 годах формируется содружество ранних немецких романтиков. Оно группируется вокруг двух братьев, один из них филолог – это Август Вильгельм фон Шлегель, другой – его брат Фридрих. Старший Шлегель был ученым-филологом. Его вклад в немецкую литературу нельзя переоценить. Он стал переводчиком Шекспира. И тут я хочу напомнить вам, что наше ощущение мировой литературы и главных имен в ней очень сильно изменилось за минувшие столетия. Для семнадцатого века Шекспир – отнюдь не гений. Во-первых, он жил недавно, во-вторых, самая концепция литературы очень изменилась с шекспировских времен – времени прошло немного, а литература очень сильно изменилась. Литература XVII-XVIII веков, как вы помните, базируется на принципе внешнего правдоподобия, на вкусе, подкрепленном разумом. Что касается Шекспира, то о правдоподобии он не заботится, он не заботится о вкусе в понимании классицистов. Ну, о каком правдоподобии можно говорить у Шекспира? Классицизм требует трех единств: места, времени и действия. Шекспир не соблюдает ни одного из них. Классицизм требует изображения возвышенного и прекрасного, никаких сцен насилия и убийства. Вы читали «Гамлета» – убийство и насилие на каждой странице, все заканчивается фразой «уберите трупы», потому что трупов очень много. И европейская сцена, а в особенности немецкая сцена, не ставила Шекспира иначе, чем в переделках. Мы же помним, что такое был Шекспир на немецкой сцене. Только переделки. Чтобы всё происходило в пределах одной гостиной или, во всяком случае, одного города, чтобы никаких трупов. О том, что в «Гамлете» происходят убийства, мы должны узнавать, конечно, от вестников, как в античной трагедии, – появится некто, который видел эти убийства и рассказал нам о том, что произошло, потому что иначе нехорошо, публика слишком возбуждается, видя поединок Гамлета и Лаэрта. Это дурно. Шекспира подправляют. Розенкранц и Гильденстерн… Ну, зачем их двое, когда вполне удобно по нуждам театра объединить их в один персонаж? Да, зачем два, когда они говорят примерно одно и то же, одна и та же функция – совершеннейшая нелепость. Поэтому Шекспира подправляют для пользы дела. Потом совсем не обязательно было убивать Офелию, жалко. За что пострадала? Поэтому Офелия тоже не всегда сходила с ума и не всегда погибала, чтобы не расстраивать публику. Вообще, публика не любит смотреть серьезные вещи. И немецкий театр, поскольку он только-только зарождался, да и вообще, поскольку театр – вещь коммерческая, он вынужден был заискивать перед публикой. Поэтому, чтобы публика не утомлялась от серьезных пьес, их всегда сдабривали, как вы помните, Гансом Вурстом (это немецкий аналог Арлекина. Мы помним историю маски Арлекина, какие сложные метаморфозы её ждали в связи с её появления в тринадцатом веке до восемнадцатого столетия). И вот на сцене постоянно присутствует Ганс Вурст, который сальными шуточками во вполне простонародном духе поддерживает в вас оптимистическое мироощущение – не дай бог, вы слишком сильно расстроитесь.
По сути дела, первый прозаический перевод на немецкий язык Шекспира появляется только лишь в семидесятые годы, он принадлежит Христиану Мартину Виланду. Этот перевод имел огромное значение для немецкой молодежи. Шекспиром стали зачитываться, его боготворили и обожали, но знали его только в прозе. А достоинство Августа Вильгельма фон Шлегеля было в том, что он сделал Шекспира доступным немецкому читателю в поэтическом языке. До сих пор в Германии классическим переводом Шекспира является перевод Августа Вильгельма Шлегеля. Вторая заслуга Шлегеля как переводчика: он переводит дальневосточную поэзию, он переводит «Веды» и «Упанишады». Это индуистские религиозные писания. То есть, Шлегель – это одно из тех имен, которые стоят у истоков европейской ориенталистики – науке, или совокупности наук, о Востоке. О Востоке мы знали очень мало. Мы должны понимать, это для нас с вами Классический Восток – Древний Египет представляется чем-то знакомым, известным, понятным. Египетские иероглифы забыли, как читать, уже к четвертому веку от Христова Рождества, а нашли ключ к их пониманию только на исходе первой трети девятнадцатого века. То есть, классический Восток был фактически закрыт для нас. Что касается Ближнего Востока, то он известен нам с семнадцатого века благодаря переводу сказок «Тысячи и одной ночи», которые произвели ошеломляющее впечатление на читающую по-французски публику. Но гораздо большее впечатление на галантный век произвели подражания «Сказкам тысячи и одной ночи», это сборник «Сказок тысячи и одного дня» Пти де Круа. Так что, в общем-то, о Ближнем Востоке представление имели по литературной французской сказке, подражающей сказкам арабским и турецким. А что касается Дальнего Востока, то о нем не знали практически ничего. Если вы читали «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, то среди фантастических стран – Лилипутии, страны великанов Бробдингнега, страны говорящих лошадей, летающего острова Лапута – попадается также страна Япония. Почему? Потому что никто ничего про неё не знал. Первые контакты с Японией относятся только к восемнадцатому веку. Что касается Китая, отношений с Китаем, то про Китай знали по диковинкам, которые попадали в антикварные лавки Европы. А эти диковинки в Китае делали специально на заказ европейцев. Китайцы очень быстро поняли, что европейцам нравятся диковинки, и стали делать «китайщину», то есть, то, что вызывало недоумение в самом Китае, но очень нравилось европейцам. Поэтому представления о китайском искусстве базировались на том киче, который активно поставлял Китай, удовлетворяя спрос европейцев. И вот конец восемнадцатого – начало девятнадцатого века – это первое обращение, первый серьезный взгляд Европы на Восток. Гёте напишет книгу «Западно-восточный диван», очень странную книгу, но это первый взгляд, единственное прижизненное сочинение Гёте, которое осталось нераспроданным до начала двадцатого века. Никто эту книгу великого Гёте, которого боготворила вся Германия, так и не читал до начала двадцатого века. Курьёз. Гёте пишет четырнадцать стихотворений «Немецко-японские времена дня и ночи». Четырнадцать небольших стихотворений, он даже их не опубликовал. Но, тем не менее, интерес к Дальнему Востоку очевиден. И то, что «Веды» и «Упанишады» были переведены на немецкий язык – это первый вдумчивый взгляд рационального Запада на иррациональный Восток. И чем дальше, тем больше Европа будет вглядываться в Восток, потому что станет понятно, что весь путь развития европейской философии очень скоро привел Европу в общем-то к краху. Европейская цивилизация продержалась очень мало, где-то с тысячного года мы начинаем отсчитывать время христианско-европейской цивилизации, а где-то с середины девятнадцатого века начинаем с ужасом смотреть на то, как мы неуклонно приближаемся к концу. И всё эта проклятая философия.
А посмотрите-ка на философию Древнего Востока, есть ли там какие-то новые открытия? Нет. Все открытия восточной философии были сделаны задолго до Христова Рождества, которое тоже, впрочем, на Дальнем Востоке не заметили по вполне понятным причинам. Но с древности более никаких философских открытий на Востоке сделано не было, и тысячелетиями стоят эти культуры, мистические культуры Востока. И рационалистический Запад начинает заискивать в восточной мистике. И сейчас мы видим, насколько уже необратим интерес к Востоку. Одни из самых первых зорких глаз, которые посмотрели на Восток, были у Августа Вильгельма фон Шлегеля.
Его брат Фридрих Шлегель более всего ценен и оценен как создатель романтической философии. Он создает цикл «Фрагментов». И мы помним, они созданы по аналогии с античными фрагментами. До нас доходят великие философы доклассической Греции только лишь в отрывочных цитатах, во фрагментах, не связанных между собой, и нам приходится восполнять лакуны между этими фрагментами по своему усмотрению, полагаясь на собственную интуицию и образование. Что же касается романтической философии Шлегеля, то она изначально предполагает фрагментарное мышление. Задача романтической философии разрушить всяческую философскую систему. Но отсутствие системы не является отсутствием философии. Установка на хаотичность мысли, на противоречивость этих фрагментов обоснована той же романтической философией. Шлегелю принадлежит также роман «Люцинда». Это был первый эротический роман, написанный на автобиографической основе. Мы упоминали об этом романе, когда говорили о концепции романтической любви. В этом романе Шлегель отразил свои отношения с женой Каролиной, представив себя и свою супругу под именами художника Юлия и его возлюбленной Люцинды. Роман, на глаза современного читателя, очень скучный. Если захотите в этом убедиться, с большим трудом найдите эту книгу, ставшую, в общем-то, библиографической редкостью. Но роман показательный. Во-первых, это первая попытка искренне заговорить об эротических одухотворенных отношениях, а до сей поры в литературе царили ханжество и порнография. Эротической литературы, по сути дела, не было, была литература порнографическая, и была литература ханжеская. Во-вторых, показателен сам жанр этого романа. Шлегель назовет его – это «роман-арабеска». Что такое «арабеска»? Арабеска для словоупотребления восемнадцатого века в Германии это аналог гротеска. А что такое гротеск? Это изначально живописный прием, в котором сочетается несовместимое. И вот этот роман-арабеска представляется в некотором смысле универсальным, синтетическим, «романтическим» романом. В нём соединяются элементы дневника, новеллы, философского диалога, драмы, элегии, пасторали, словно как бы каждая глава написана в новом жанре. Этот роман совершенно рушит все представления о жанровой структуре романа. И мы уже с вами понимаем почему, какая идея лежит в основе этого разрушения. Это мистическая идея «наблюдения бесконечного в конечном».
Следующее имя, великое имя для немецкой литературы писателя, наверное, сейчас трудного для чтения: Новалис. Новалис – это псевдоним, автоним этого автора: Фридрих фон Гарденберг. Но под этим именем его никто не знает, и впредь мы будем называть его литературным псевдонимом Новалис.
Он мало что успел написать за свою недолгую жизнь. Он умер двадцати восьми лет, оставив по себе небольшой сборник стихотворений и два недописанных романа – один совсем крошечный фрагмент, другой – довольно большой роман, оставшийся недописанным. Новалису принадлежит сборник лирической поэзии, он называется «Гимны к ночи», и посвящен возлюбленной поэта Софии фон Кюн. Новалис был обручен с Софией фон Кюн, но она умерла в отрочестве, тринадцати лет. И вот ей, этой умершей девочке, посвящен сборник лирических стихотворений. Я сразу хочу обратить ваше внимание на адресат этого сборника: это мертвая девочка. Мы же помним с вами – романтический герой во всем стремится соединиться с идеалом. Романтики, как все прочие люди в этом, стремятся к счастливой любви. Но это стремление сталкивается с тем, что если счастье в любви достижимо, то, стало быть, эта любовь конечна, стало быть, не идеальна. Мы оказываемся в логических тисках. Получается так: если любовь счастливая, то, стало быть, не романтическая. Поэтому лучше всего истинному романтику влюбиться во что-нибудь изначально безответное. Поэтому романтики будут влюбляться в кого? В покойников, как Новалис в данном случае, как впоследствии в своей то ли романтической, то ли пародийной повести «Флорентийские ночи» герой Генриха Гейне, как персонажи Эдгара По, находящегося под влиянием немецкой романтической школы. Романтические герои будут влюбляться в ожившие механизмы. А есть что-то более страшное, чем то, что кажется живым, в то время, как оно мертвое? Тем не менее, у Гофмана Натанаэль в «Песочном человеке» влюбится в куклу Олимпию. Они будут влюбляться восковые куклы, как, скажем, герой Жана Поля Фридриха Рихтера в романе «Комета» будет возить с собой восковое изображение женщины и её он будет любить. Они будут влюбляться в глиняные куклы– так в голема влюбился Карл Пятый в новелле Ахима фон Арнима «Изабелла Египетская». Наконец, они будут влюбляться в обычных женщин, но в обычных женщин, то есть, не романтически возвышенных, не в идеальные объекты, а в нечто то, что изначально не способно понять романтическую натуру. Такая любовь, хотя и кажется по внешности взаимной, но, тем не менее, не разделена: он любит её, она любит его, но это не значит, что они любят друг друга. Получается, что романтики при своей постоянной декларации одиночества, при своих вечных сетованиях на то, что их любовь недостижима и, стало быть, несчастна, будут тщательно оберегать свое одиночество. Вообще, милые крошки, остерегайтесь встречаться с «романтиками», они существа коварные. Так что все попытки просто хорошего человека, любящего человека, спасти романтика, как правило, наталкиваются на поражение по той причине, что романтическая натура всегда будет заботливо оберегать свой внутренний мир от чуждых вторжений и всячески пестовать свое одиночество.
Итак, тема смерти и ночная поэзия входят в немецкую литературу. В скором времени я сделаю оговорку, что и ночная, и кладбищенская поэзия уже существовала в европейской литературе в восемнадцатом веке, но имела существенное отличие от поэзии романтической.
Теперь следующее произведение Новалиса, которое становится главным произведением всего раннего немецкого романтизма – это роман «Генрих фон Офтердинген». Это очень важное для Германии имя. Поскольку все вы рано или поздно окажетесь в Германии, ведь все выпускницы ром-герма так или иначе стремятся выйти замуж в Германию, там сидеть и разгадывать кроссворды, то вам потребуется знать точное написание этих имен, они часто попадаются… Так вот Генрих фон Офтердинген – это один из великих немецких поэтов, от творчества которых до нас ничего не дошло. Это средневековый бард, о котором нам известна только лишь легенда. Когда-то на состязании поэтов, на котором были великие немецкие поэты – Вольфрам фон Эшенбах, Гартман фон Ауэ, Вальтер фон дер Фогельвейде при дворе, кажется, венгерского или, может быть, богемского, тут разнятся источники, государя, Генрих фон Одфтердинген надменно отказался восхвалять госпожу, был обречен за это на смерть, и был спасён только лишь заступничеством старого венгерского барда Клингсора. Из этой истории Новалис возьмет только лишь имя – Генрих фон Офтердинген, как знаковое имя, как практически синоним слова поэт. С чего начинается роман? Генрих фон Офтердинген спит. Он совсем молодой человек. За свой сон он проживает несколько жизней. Ему кажется, что он участвует в битвах, что он странствует, что он любит, теряет любимую, но финал сна начинает видеться ему отчетливо, словно Генрих залит весь дивным сиянием и скользит по какой-то дивной реке, выбирается на берег, сплошь поросший цветами. Среди них особое впечатление на него производит огромный голубой цветок, в чашечке которого скрывается женское лицо. От сна Генрих пробужден своей матерью, которая ему говорит: довольно спать, соня. Солнце уже высоко, отец не может начать работать, потому что боится тебе помешать. Генрих говорит: «Мамочка, мама, я видел такой дивный сон…» Пытается ей рассказать. «А это всё оттого, что ты спал на спине. Давай вставай скорей, завтрак уже на столе». С чем мы сталкиваемся? Мы встречаемся с характерным приемом романтического двоемирия. Возникает разрушение мечты, мира грёзы, фантазии при столкновении с реальностью. О чем упоминается? О труде, о том, что надо работать, о том, что надо питаться, то есть обо всем, что связано со сферой человеческого тела. Но в то же время ни мать, ни отец Генриха – не плохие люди. Мы замечем, что отец не может начать работать, потому что боится помешать своему сыну спать, а сын, в общем-то, если глядеть глазами просто хорошего человека, лентяй, в отличие от отца, честного труженика. Ремесленник должен молотком колотить, а сын спит, отец не может начать работать. Наличествует взаимное непонимание этих двух миров – мира поэта и мира его материалистически ориентированного отца, хотя между поэтом и просто честным бюргером устанавливаются самые добрые отношения.
Тут мы обращаем с вами внимание на тему сна. Отношение ко сну в восемнадцатом веке было такое: Сон, вообще-то говоря, это же нечто неразумное, иррациональное. Сны появляются в литературе только в том случае, если они что-то объясняют, имея характер аллегории. Во сне человек продолжает думать, но он думает при помощи символов и аллегорий, которые можно расшифровать, то есть, подвергнуть сон логическому анализу. А всё, что во сне не логично, необъяснимо, всё отбрасывается. Все образы сна объясняются брожением наших соков, говоря языком науки той поры. Романтики были первыми, кто обратил внимание на сон, как на способ постижения мира. Вот, что удивительно: когда мы живем дневной нашей жизнью, мы очень мало внимания уделяем сновидениям, мы практически не помним уже по прошествии нескольких минут, что нам снилось ночью, будь эти сны ласкательны для нас или пугающи, мы мало что вспоминаем из них. Как правило, лишь только какой-то обрывок сна, самый близкий к нашему пробуждению. Когда мы погружаемся в сновидение, то мы, как правило, довольно прочно забываем, какой жизнью мы жили днем. Все события сна не кажутся нам такими уж странными, мы с легкостью вживаемся в их логику и можем совершать самые чудные, аморальные или жестокие поступки, совершенно не предполагая, что за это можем быть осуждены днем. То есть, сон оказывается имморален, сон адресуется к каким-то глубинным пластам нашей жизни, мы можем беспрепятственно летать или плавать, словно какое-то древнее существо еще доадамовой поры. И кто в конце концов сказал, что наше дневное состояние, наша дневная жизнь является единственно истинной жизнью нашего Я? Сейчас-то мы, как люди двадцать первого века, уже совершенно отчетливо знаем, что сон это тоже инобытие, но тогда для литературы было новостью, что во сне человек тоже постигает мир.
Тема Ночи, которая заявлена в «Гимнах к ночи» и тема Сна, как атрибута Ночи. Все дело в том, что и в предромантизме восемнадцатого века была кладбищенская и ночная поэзия. Вот давайте представим себе: вы немецкий поэт восемнадцатого века. Ну, лучше бы английской, потому что лучшая немецкая поэзия восемнадцатого века – это переводная английская, немцы сами это признавали, молодежь была в восторге от англичан. Так что, вы – поэт-предромантик. Ночью приходите на кладбище, присаживаетесь на одинокую безымянную могилу, вам страшно и одиноко, вы решаете написать стишок. Вы пишете: «Мне страшно, я одинок. Ночь накинула свой темный полог на мир, он утратил привычные понятные очертания. И теперь я не ощущаю себя разумным существом, я не понимаю этот мир, никто меня не понимает, рассудок мой, естественно, изнемогает, но по счастью наступает день, и к миру возвращаются его привычные очертания». Поэт сворачивает стишок, кладет его в карман и идет восвояси. Теперь вы – романтический поэт начала девятнадцатого века. Приходите на кладбище темной ночью, вам страшно и одиноко. Вы решаете написать стишок. Что вы пишете: «Наступила ночь. Предметы утратили свое конечное материальное очертание. Их бесконечная мистическая, таинственная сущность вышла за пределы их конечных очертаний. Мой разум спит, и моя душа беспрепятственно постигает тайну этого мира. Но наступает день, он набрасывает свой блистательный полог на мирозданье, предметам вновь возвращает их конечное материальное очертание, и тайна этого мира скрывается от меня».
По внешности всё будет одно и тоже, и тот стишок, и другой будут очень похожи, но совершенно различная мотивация, которая заставляет поэта написать тот или другой стишок.
Таким образом, тема Сна, которая заявлена в самом начале романа «Генрих фон Офтердинген», является весьма многозначительной.
Генрих фон Офтердинген, не успокоившись, обращается к отцу, пытается рассказать ему свой сон. И отец говорит, что и он тоже видел подобный сон. Он видел цветок, в чашечке было лицо матери, потом отец пустился в странствие (в странствие пустится и Генрих), и нашел обладательницу того самого лица, это была мать Генриха. А был ли тот цветок голубым? – спрашивает Генрих. А вот этого-то отец не помнит. И мы понимаем: оба видели женское лицо, оба видели цветок – один помнит цвет цветка, другой позабыл. Отец женился и стал хорошим ремесленником. Генрих фон Офтердинген тоже найдет свою любовь, но он эту любовь потеряет, его возлюбленная Матильда утонет, и Генрих будет продолжать дальше странствовать и будет встречать других женщин, и, в конце-концов, в финале этого романа, можно предполагать, он станет великим поэтом. Так что вполне понятно, чем является образ голубого цветка. Он сочетает в себе две идеи – это идея любви и идея вдохновения, искусства. Этот символ двуедин, потому что любовь является одухотворяющим началом. Согласно воззрениям романтиков, в основе искусства лежит любовь. Это движущая сила искусства. Но любовь в жизни человека может придти и не сподвигая его творить, она может придти и в жизнь просто хорошего человека, не превращая его в художника. И вот отец Генриха, как можем предполагать, имея задатки быть и музыкантом, и просто хорошим человеком, предпочитает стать честным бюргером, он обретает свое счастье в любви и в профессии, став ремесленником. Что касается Генриха, то ему сужден другой путь, который сделает из него поэта. Ну, разговор об этом романе мы продолжим следующий раз. Спасибо за внимание.
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| Каспар Давид Фридрих: образы картины «Над обрывом». Тыльная постановка фигуры. Романтическое окно. О точке зрения в пейзаже Фридриха. (24 февраля 2004). | | | ПОЭЗИЯ В ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ |
Дата добавления: 2019-12-09; просмотров: 1373;