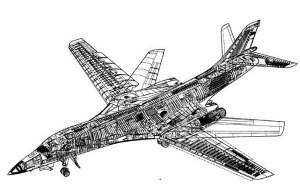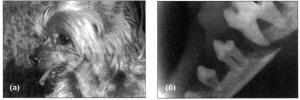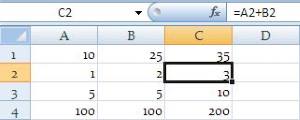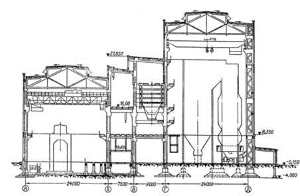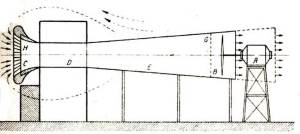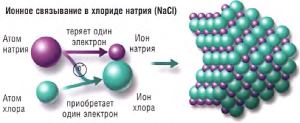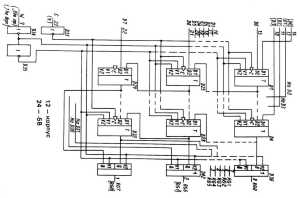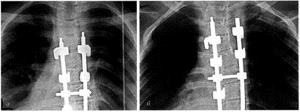Пути к разгадке русской души
В фокусе интереса западных культурантропологов русский национальный характер оказался в первые послевоенные годы (т. е. в период «холодной войны»). Его особенности — по гипотезе свивания британского исследователя Дж. Горера — они связывали с сохранившимся в России вплоть до XX в. обычаем тугого пеленания младенцев — до года и более — с помощью специального свивальника. [с. 136]В популяризации этой идеи большую роль сыграли М. Мид и Э. Эриксон, использовавший ее в работе «Легенда о юности Максима Горького», где он попытался ответить на вопрос: «действительно ли русская душа — спеленутая душа?» [Эриксон, 1996а, с. 540].
Из чередования почти постоянной неподвижности младенца и его кратковременного освобождения из свивальника для купания и двигательной активности пытались вывести раскачивание русских «между длительными периодами депрессии и самокопания и короткими периодами бешеной социальной активности» и даже «между длительными периодами подчинения сильной внешней власти и короткими периодами интенсивной революционной деятельности»[Bock, 1988, р. 85].
Явно неправомерно придавать столь глобальное значение «пеленочному детерминизму» (одному из «ничтожных аспектов дела», по определению П. Сорокина[Сорокин, 1990, с. 464]), но не следует и с ходу отбрасывать его возможное влияние на развитие личности. Сторонники гипотезы вовсе не утверждали, в чем их часто обвиняют, что практика тугого пеленания детей является основной причиной автократических политических институтов царизма и сталинизма или что она привела к формированию маниакально-депрессивной базовой личности русского народа. Напротив, они подчеркивали, что не стоит ограничиваться единственной однонаправленной цепью причинности. Сам Горер скорее довольствовался тем, что рассматривал свивание младенцев как один из способов, которым русские «…информируют своих детей о необходимости сильной внешней власти»[Bock, 1988, р. 85]. Как тут ни вспомнить отрывок из автобиографии Л. Н. Толстого о его первом детском воспоминании — попытках высвободиться из свивальника:
«Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. <…> Мне хочется свободы; она никому не мешает, и меня мучают. Им [взрослым] меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны»[Толстой, 1951, с. 329].
Эриксон, осознавая, что тугое пеленание является почти универсальным в мировых культурах обычаем, утверждал, что он сохранился [с. 137]столь долго и «получил усиление» именно в России из-за синхронизации особенностей ранней социализации детей с другими элементами культуры. В русской культуре он выделял несколько образцов, имеющих одинаковую форму — чередования полной пассивности и бурной эмоциональной разрядки. Так, на формирование личности русского человека, по его мнению, оказал влияние ритм крестьянской жизни в холодном климате — смена относительной бездеятельности и пассивности в долгие зимние месяцы и «периодическое освобождение… после весенней оттепели» [Эриксон, 1996а, с. 543].
Интересно, что схожие черты — черты «культурного эпилептоида», который долго задерживает эмоциональные реакции, а затем сокрушительно и бурно взрывается, были выявлены К. Касьяновой у русских в 70-е годы XX в. Использование ею клинического теста ММРI (Миннесотского многофакторного личностного опросника) не может не вызвать критических замечаний, так как он был сконструирован отнюдь не для этнопсихологических исследований здоровых людей, и тем не менее автору с помощью междисциплинарных интерпретаций удалось «нащупать» некоторые особенности, присущие русскому человеку[Касьянова, 1994].
Не только психологи и культурантропологи акцентируют внимание на противоположных началах, которые легли в основу формирования русского национального характера. Так, Н. А. Бердяев полагал, что «в основу формации русской души» легли два противоположных начала: «природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие» [Бердяев, 1990а, с. 44]. Именно в этом он видел историческую причину того, что русский народ в высшей степени поляризован и совмещает противоположности: деспотизм — анархизм; жестокость, склонность к насилию — доброту, человечность; смирение — наглость; рабство — бунт и т.п.
[с. 138]Немецкий философ В. Шубарт, противопоставляя русскую «культуру конца» западной «культуре середины», также видит основу русской души в особенностях православия:
«Русской душе чужда срединность. У русского нет амортизирующей средней части, соединяющего звена между двумя крайностями. В русском человеке контрасты — один к другому впритык, и их жесткое трение растирает душу до ран. Тут грубость рядом с нежностью сердца, жестокость рядом с сентиментальностью, чувственность рядом с аскезой, греховность рядом со святостью» [Шубарт, 1997, с. 84].
Представляется, что при всей наивности и односторонности гипотезы свивания она обладает одним важным достоинством — попыткой выделения не набора качеств, а детерминированных культурой оснований «особости» русского этноса.
В 60-е годы XX в. К. Клакхоном с помощью личностных тестов были выделены качества, присущие, по его мнению, модальной личности русских: «сердечность, человечность, зависимость от прочных социальных контактов, эмоциональная нестабильность, иррациональность, сила, недисциплинированность, потребность подчиняться власти» [цит. по:Bock, 1988, р. 87]. Казалось бы, с этим набором черт русский человек может согласиться, однако еще раз подчеркнем: любое перечисление качеств не может служить объяснением особости русского народа, как, впрочем, и любого другого.
В советской науке — «во времена расцвета и сближения наций» — серьезное изучение национального характера было попросту невозможно. Но в последнее десятилетие пристальное внимание на психологические особенности русского (российского) народа обратили и отечественные исследователи. Так, в 1993 г. в редакции журнала «Вопросы философии» прошло заседание «круглого стола» на тему «Российская ментальность», где обсуждались вопросы ее природы и изменений, ценностных ориентаций и основных характеристик. В ходе дискуссии упоминались такие компоненты российской ментальности, как
«разрыв между настоящим и будущим, исключительная поглощенность будущим, отсутствие личностного сознания, а потому и ответственности за принятие решений в ситуациях риска и неопределенности, облачение национальной идеи ("русской идеи") в мессианские одеяния, открытость или всеотзывчивость» [Российская ментальность, 1990, с. 50].
Но прав А. П. Огурцов, что против каждой из этих характеристик можно найти контрфакты и контраргументы. Например, неумение [с. 139]жить в настоящем и обращенность в будущее можно рассматривать как характеристику «утопически-тоталитарного сознания, характерного для истории России последнего столетия, но не для всей истории России» [Там же, с. 50]. И такие проблемы постоянно будут возникать при попытках определить ментальность через набор ее характеристик.
Более продуктивным представляется выделение в русской ментальности этнических констант в соответствии с концепцией Лурье. В стране, где еще в 1926 г. городское население составляло всего 18%, да и в начале XXI в. у большей части россиян сохраняются крестьянские корни, этнические константы следует искать именно в ментальноcти крестьян, что и делает исследовательница. По ее мнению, источником добра в традиционной русской культуре рассматривалась община,которую сами крестьяне называли миром.
Община для русского крестьянина была не только хозяйственной единицей. На протяжении веков она оставалась основной ячейкой социального уклада всей сельской жизни, в буквальном смысле слова миром русского человека, занимающим центральное место в структуре его социальной идентичности, чем и отличалась от поземельных общин, существовавших в других странах.
Именно община как психологическая общность выполняла для своих членов ценностно-ориентационную и защитную (вплоть до исключения угрозы индивидуального голода, так как испытания претерпевались совместно) функции. Крестьянин, освоивший социальные приемы «жизни вместе» (взаимопомощь, вынужденную щедрость, общинную землю, разделение труда, многочисленные формы совместного проведения досуга), одновременно приобретал и потребность во внешнем контроле[Козлова, 1999, с. 54]. Отсюда и «культурный шок», и потеря устойчивой социальной идентичности, которые испытывали раскрепощенные, в том числе и от общинных уз, крестьяне, попадая в город в 60-е годы XIX в.
Знаток русской деревни того времени Глеб Успенский дал яркие описания того, как из крестьянина, «выброшенного расстройством деревенского духа и быта» в город, получался человек, готовый «подчиниться в чуждой ему среде всевозможным влияниям с наивностью ребенка, не имеющего возможности знать и понимать, [с. 140]что в этих условиях зло и что добро» [цит. по: Касьянова, 1994, с. 16].
А член крестьянской общины хорошо представлял себе, что его доброму миру противостоят все органы власти, вплоть до государственных, чьи решения ему почти всегда непонятны и чужды. Правда, крестьянин пытался переносить защитные функции общины на государство, ждал от него отеческой заботы (т. е. проявлял патерналистские установки). Но, как правило, не дожидался, что еще больше отталкивало его от государства.
Представляется, что Лурье права, именно государство рассматривая в качестве локализации еще одной константы русской ментальности — источника зла, находящегося в постоянном конфликте с народом. Исследовательница отмечает, что, хотя «русские крестьяне были связаны со своим государством множеством тонких нервных нитей … эта связь никогда не была отношением гражданства и законности»[Лурье, 1994, с. 125]. Государство в мир в широком смысле слова, под которым понимался русский народ, не входило.
Конфронтация с государством проявлялась не только в открытом противостоянии — бунтах и восстаниях, но и в терпеливом повседневном сопротивлении: в волоките, симуляции, дезертирстве, воровстве, мнимом неведении, во всех тех социальных изобретениях, которые социальный антрополог Н. Н. Козлова образно назвала техниками «проскальзывания и ускользания» [Козлова, 1999, с. 57].
Итак, на протяжении веков отношения государства и общества в России можно рассматривать как межгрупповые отношения, где государство (за понятием государство стоят его представители — чиновники) является высокостатусной аутгруппой, «чужой» для народа. И лишь в ситуации внешней опасности границы между двумя группами стирались, возникала надгрупповая идентичность ради достижения общей цели — победы над общим врагом. Очень показательно, что главными событиями отечественной истории, вызывающими чувство гордости за государство и народ, в опросах 90-х годов оказались именно события, в которых проявилось общенациональное согласие, — Великая Отечественная война и Отечественная война 1812 года[Сикевич, 1999].
В СССР были уничтожены многие сообщества, которые в большей или меньшей степени ориентировали и защищали человека, в том числе и сельская община. Попытки советской власти заменить общинную ментальность ментальностью государственной были предприняты сразу после окончания Гражданской войны. Это требовало гигантских усилий, цель которых именно в том, чтобы место [с. 141]общины в структуре социальной идентичности советского человека (т. е. бывшего крестьянина) заняло государство (конечно, государство трудящихся). Даже крестьяне долгое время полагали, что «Россия принимает черты большой общины, большого "мира"» [Лурье, 1994, с. 205], и не замечали враждебного к себе отношения со стороны новых властей, тем более что те дали им землю, воплотив идеальный крестьянский образ России. В тоталитарном государстве его граждане искали и, как это ни парадоксально, находили источник добра.
Во-первых, этому способствовало то, что для общенационального сплочения на протяжении десятилетий поддерживался миф о постоянной внешней опасности, а в ситуациях обострения социальных или экономических кризисов «подбрасывались» внутренние враги — агенты зарубежных разведок, врачи-убийцы и пр., т. е. создавались так называемые «концепции заговора».
Во-вторых, использовались псевдообщинные формы социальных институтов. Историками подмечено, что для масс бывших крестьян, оказавшихся в городах в период индустриализации, бесконечные собрания, проводившиеся в тот период (от партийных и профсоюзных до судов как над героями литературных произведений, так и над вредителями и саботажниками), заменяли общинные сходы, а значит, выполняли функции ориентации в новой для них культурной среде и защиты социалистических ценностей.
Действительно, при государственном социализме многие граждане СССР чувствовали себя защищенными и оберегаемыми великой державой. Результаты массовых опросов свидетельствуют, что до сих пор люди, испытывающие ностальгию по СССР, его существенными достоинствами считают «заботу о человеке», уверенность, что государство не оставит «без куска хлеба». При исследовании в 1995–1996 гг. патернализма как одного из измерений культуры, предложенных Г. Хофстедом, было обнаружено, что русские респонденты продемонстрировали его высокий уровень, значимо отличающийся от уровня патернализма граждан США, Германии и Франции[Naumov, Puffer,2000].
Впрочем, в СССР основной акцент ставился на идеологических аспектах идентификации с государством — объединяющим началом рассматривалась коммунистическая идеология и мораль, наличие единой руководящей партии и т.п. В этих условиях значимость данной идентичности различалась у разных групп граждан, а эмоционально-оценочная окраска образа советского государства оказывалась неоднозначной. Например, уже в 1986 г. и у москвичей, и у жителей сельских районов Тверской (тогда — Калининской) области советская идентичность уходила на второй план, ау жителей столицы [с. 142]даже имела отрицательное сальдо позитивных и негативных определений[Гнатенко, Павленко, 1999]. Но кардинальные изменения — десоветизация всех групп населения — произошли только в последние пятнадцать лет. Как уже отмечалось в первой главе, после распада СССР его бывшие граждане стали искать группы, которые защитили бы их и помогли восстановить целостность окружающего мира (искать новые источники добра, по терминологии Лурье).
Как уже отмечалось, для русских в пореформенный период одной из групп поддержки оказался этнос, чему имеется множество эмпирических подтверждений. Например, в течение десяти лет (с 1986 по 1996 г.) постоянно возрастала идентификация с этнической общностью русских жителей Москвы и сельских районов Тверской области [Гнатенко, Павленко, 1999]. В 90-е годы усиление этнической составляющей социальной идентичности было обнаружено и у многих русских, проживающих в странах ближнего зарубежья, в частности Казахстане и Узбекистане, и неожиданно оказавшихся представителями дискриминируемого этнического меньшинства[Лебедева, 1999].
С возрастанием относительной стабилизации в обществе наметились и новые тенденции. Так, по данным П. И. Гнатенко и В. Н. Павленко, уже в 1996 г. в благополучной с точки зрения социально-экономических показателей Москве этническая идентичность делила ведущую позицию с гражданской идентичностью, в столице возросло и число сторонников европейской и общечеловеческой идентичностей. Кроме того, если на рубеже 80-х и 90-х годов этническая идентичность зачастую приобретала политическую окраску, то к середине 90-х годов наметился общий спад этнической мобилизации [Гнатенко, Павленко, 1999]. Структура социальной идентичности русских в начале XXI в. находится в процессе трансформации, продолжается поиск источника добра.
Но если Мы-образ в качестве источника добра за последние сто лет претерпел значительные трансформации, то еще одна константа в ментальности русских (образ покровителя) сохранилась в большей неприкосновенности. Лурье рассматривает веру в царя как способ психологической защиты в ответ на постоянный конфликт между народом и государством: так как государство на протяжении веков воспринималось как нечто чужеродное, вмешивавшееся во внутреннюю жизнь общины, отношения между ними способен был урегулировать только покровитель народа — царь.
Царецентризм видоизменялся в зависимости от периода развития русской государственности и личностных качеств конкретного правителя. Покровителями могли быть святые князья, отдавшие [с. 143]жизнь за православную веру, как Борис и Глеб, и заступники за землю русскую, как Александр Невский или Дмитрий Донской. Покровителем рассматривался и жестокий, но справедливый исполнитель божественного закона Иван Грозный, наказывающий во благо и казнящий бояр из-за того, что те притесняют крестьян. Носители российской ментальности, беззаветно любя правителя, могли использовать и внешние атрибуции, полагая, что он наказывает по неведению, так как в силу интриг своего окружения не знает правды.
Если же крестьяне были недовольны действиями реального царя, они возлагали надежду не на него, а на его мифологизированный образ. Тогда возникали легенды о скрывающемся истинном царе. Самая известная из легенд о царях Нового времени — легенда об Александре I, якобы не умершем в Таганроге, а «ушедшем в народ» и скитающемся по России под именем старца Федора Кузьмича. С таким царем-мужиком была возможна полная идентификация русского крестьянина, иными словами, слияние царя и мира в общее «Мы».
Именно образ посредника как этническая константа не претерпел в России серьезных изменений: неискоренимая вера в царя была перенесена на коммунистических вождей — Ленина и Сталина, затем на первых лиц государства постсоветского периода — Горбачева и Ельцина, а в настоящее время — на президента Путина.
Благочестивый царь на протяжении столетий воспринимался русским человеком живым образом Бога, поэтому вполне естественно было выделение его из мирского государства и включение в мир Святой Руси. Но и президент — главный государственный чиновник — точно так же отделяется от всех остальных чиновников и государства в целом.
В развитие выдвинутых Лурье идей обоснованным представляется еще одно предположение: в системе русской ментальности один из важнейших способов действия, ведущий к победе добра над злом, — не закон, устанавливаемый «врагом»-государством, а милосердие. Отражением этого является и отмеченное Ю. М. Лотманом «устойчивое стремление русской литературы увидеть в законе сухое и бесчеловечное начало в противоположность таким неформальным [с. 144]понятиям, как милость, жертва, любовь» [Лотман, 1992б]. Примечательный пример противопоставления русским человеком юриспруденции и моральных принципов мы находим в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина: на предположение Екатерины II, что она жалуется на несправедливость и обиду, Маша Миронова дает неожиданный ответ: «Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия»[Пушкин, 1957, т. 6, с. 536].
Противопоставление законов и моральных норм как особенность русской ментальности не раз обнаруживали российские психологи, изучавшие правовое сознание современной молодежи. Как отмечают авторы одного из исследований, слова из протокола выполнения задания «Не по закону, а по совести» содержали в себе основной результат, иными словами, противопоставление закона и совести буквально лежало на поверхности ответов их испытуемых.
Особенно наглядно это проявилось при обсуждении испытуемыми «истории» — жизненной ситуации, персонажами которой были пассажиры поезда — мама с ребенком, занявшая чужое место за взятку проводнику, и женщина с билетом на это место. Все опрошенные не учитывали «закон» — право человека, купившего билет, а ожидали от него милосердия, сострадания и жалости, в противном случае считая его непорядочным человеком[Воловикова, Гренкова, Морскова, 1996].
Еще один характеризующий русскую ментальность способ «действия» в борьбе добра со злом — бездействие. Об этом свидетельствуют центральное место понятия судьба в русской культуре и роль в жизни русского человека «авось-отношения». Так, «русская грамматика изобилует конструкциями, в которых действительный мир предстает как противопоставленный человеческим желаниям и волевым устремлениям или как, по крайней мере, независимый от них» [Вежбицкая, 1997, с. 70–71]. Например, широко распространены неагентивные предложения — конструкции с дательным падежом субъекта (мне не верится, мне хочется, мне помнится) и безличные конструкции(его убило молнией, его лихорадило). Русские очень часто используют их, рассказывая о событиях и подразумевая, что «таинственные и непонятные события происходят вне нас совсем не по той причине, что кто-то делает что-то, а события, происходящие внутри нас, наступают отнюдь не потому, что мы этого хотим» [Там же, с. 71].
Неагентивность, т. е. неспособность действовать в качестве активного субъекта, характерна и для русской лексики, что можно[с. 145]обнаружить в глаголах типа удалось, получилось, вышло, посчастливилось, повезло. В языке отражается то, что русская ментальность не предписывает человеку бороться с враждебными силами и привлекать позитивные силы на свою сторону. Однако русская картина мира в этой области достаточно оптимистична — человеку помогают «и случай, и везение, и удача»[Голованивская, 1997, с. 119].
Современный русский человек, как и его далекий предок, склонен верить в чудо. Приведем только два примера. В недавнем исследовании стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях факторный анализ способов совладания (coping) продемонстрировал, что самым значимым фактором у русских оказалась «обломовщина» — «фантазирование, уход в мир воображаемого и желаемого»:
«В данном факторе представлен такой эмоционально-ориентированный тип совладающего поведения, который характеризуется фантазиями и мечтаниями личности, выражает отношения желательности, иллюзорности и прекраснодушия. Суровой реальности фактов и событий с их травмирующими психику воздействиями индивид предпочитает воображаемый мир и рассуждения о том, "как хорошо было бы, если бы…"» [Джидарьян, 2001, с. 206].
А при опросе крестьян Белгородской области в 2001 г. была предпринята попытка выяснить, стремятся ли респонденты к достижению более высокого уровня жизни и осуществляют ли для этого необходимые усилия. Выяснилось, что среди ответов об отношении к уровню достигнутого благополучия безусловным лидером был ответ «мечтаем, надеемся, что как-нибудь положение улучшится». Практически половина респондентов предпочла этот вариант, иными словами, каждый второй крестьянин живет, надеясь на чудо.
К ряду этнических констант ментальности, выделенных Лурье, мы добавили еще одну — представление о вероятности, с которой добро побеждает зло. В исследованиях русского национального характера оптимизм/пессимизм выделялся неоднократно, причем большинство исследователей разделяло мнение о пессимистичности русских. Так, британский социальный психолог Д. Пибоди приписывал им пессимизм, определяя его как пассивное приспособление к ситуации, склонность к депрессии и безысходности [Peabody, 1985]. К. А. Абульханова и Р. Р. Енакаева большую часть современного российского общества — при исследовании предпринимателей, ученых, рабочих и пенсионеров — оценили как пессимистичную[Абульханова, Енакаева, 1996].
[с. 146]Но когда исследуются элементы культуры безотносительно к конкретной социально-экономической ситуации, русские выглядят намного оптимистичнее. Так, М. К. Голованивская на основе анализа лексических групп русского языка приходит к заключению, что его носителям присущ оптимизм, связанный «с идеей безответственности и особенным непереводимым словечком обойдется» [Голованивская, 1997, с. 80–81]. Иными словами, судя по русской лексике, для русских характерен оптимизм в прогнозе будущего, связанный с верой в то, что негативные события обойдут стороной. И. А. Джидарьян, определяя оптимизм как устремленность в завтрашний день, надежды и мечты о благополучном и счастливом будущем, рассматривает их как одни из наиболее ярких и глубоко укорененных черт русского народа[Джидарьян, 1997].
Представляется, что именно по причине типичной для русских неудовлетворенности существующим положением дел в оценке ими событий настоящего преобладает пессимистичный фон. Он и был зафиксирован исследователями, описывающими русскую культуру как пессимистичную. Однако из пессимизма ситуативного вовсе не следует пессимизм общий, охватывающий все сферы жизни, тем более что жизнь «здесь и теперь» никогда не занимала главенствующего положения в мировосприятии русского человека.
Эти же особенности русской ментальности описываются писателями и философами: мир на протяжении веков оценивался русскими в общем как благоприятный. В прошлом русский человек ищет нравственное утешение и вдохновение, настоящее чаще всего его не удовлетворяет, но впереди его ждет желанное и совершенное будущее. Русским свойственна уверенность в том, что все обойдется и добро непременно возобладает над злом, но в будущем.
Представленный эскиз констант русской ментальности не является всеобъемлющим для современных русских. Нами проанализирована ментальность «родом из крестьян», но ни один народ не является монолитным, а ментальность отражает различия представителей разных страт и регионов. В настоящее время предпринимаются попытки представить типологии русских и российских ментальностей.
Так, В. Е. Семенов предлагает следующую типологию ментальностей: православно-российская, коллективистско-социалистическая, индивидуалистско-капиталистическая, криминально-мафиозная и мозаично-конформистская псевдоментальность (порождение массовой культуры, конгломерат осколков указанных ментальностей) [Семенов, 2000].Но все-таки проблемы типологизации [с. 147]ментальностей еще ждут дальнейшего серьезного осмысления.
Дата добавления: 2021-06-28; просмотров: 638;