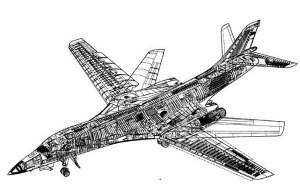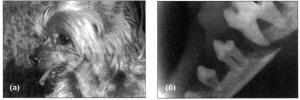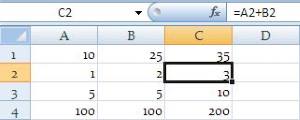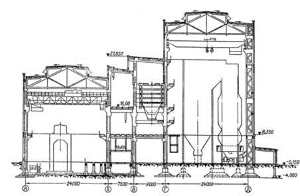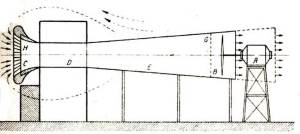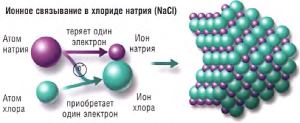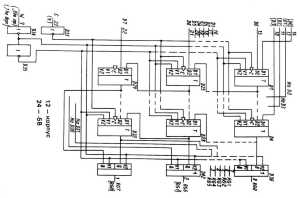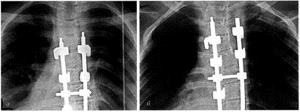Хеттская и хурритская литературы 59 глава
444
с советом использовать свою силу не для достижения личной власти, а для восстановления республики, пытался сотрудничать то с одной, то с другой стороной. Но, сотрудничая с сенатом, он чувствовал тщету своих усилий, а содействуя Цезарю, не мог подавить угрызений совести. До последнего момента он пытался быть всеобщим примирителем, и лишь после убийства Цезаря, когда стало ясно, что между сенатом и монархией неизбежна война не на жизнь, а на смерть, 62-летний Цицерон, ясно сознавая безнадежность дела республики, все же бесповоротно встал на сторону сената, в течение года был его духовным вождем, а после его поражения в 43 г. был убит одним из первых по приказу победителей, Антония и Октавиана.
Эту общую картину деятельности Цицерона необходимо представить себе для того, чтобы лучше понять три основных аспекта его роли в истории мировой культуры и литературы: его личность, его гуманистический идеал и его работу над созданием латинского языка и стиля. Эти три аспекта приблизительно соответствуют трем группам сохранившихся произведений Цицерона: письмам, трактатам и речам.
Личность Цицерона известна и понятна нам лучше, чем личность какого бы то ни было деятеля античности, благодаря огромному своду его писем, большая часть которых для публикации не предназначалась и писалась свободно и искренне. Особенно это относится к 16 книгам «Писем к Аттику», ближайшему другу Цицерона, всаднику, крупному финансисту, эпикурейцу и писателю-дилетанту. В письмах мы видим не только Цицерона-писателя и политика, но и Цицерона-человека: вежливого корреспондента, участливого друга, нерасчетливого хозяина, любящего отца; более того, в письмах мы видим душевную жизнь Цицерона: впечатлительность и склонность к увлечению в сочетании с рассудочным самоконтролем, с привычкой взвешивать и учитывать до бесконечности все доводы за и против, постоянное стремление к золотой середине и мучительную необходимость выбирать между крайностями, колебания, тщеславие и недовольство собой.
Открытие писем Цицерона в эпоху Возрождения стало событием для европейской гуманистической литературы: оно впервые показало миру психологический портрет великого человека во всем многогранном, сложном и противоречивом богатстве его личности. Вместо непоколебимого героя и мудреца, каким представлялся дотоле и Цицерон, и всякий деятель классической древности, образованная Европа увидела человека, которому ничто человеческое не чуждо, человека со всеми его достоинствами и недостатками. На первых порах это казалось разочарованием: Петрарка, впервые обнаружив в 1345 г. письма Цицерона к Аттику, был так взволнован этим чтением, что написал оратору латинское письмо на тот свет, наивно сочувствуя Цицерону и сожалея, что у него недостало духа вести уединенную жизнь мудреца и он предпочел ей превратности политики. Но вскоре затем именно эта полнота человечности была воспринята передовым обществом как часть нового культурного идеала и послужила одним из образцов для формирующегося гуманистического представления о человеке.
Гуманистический идеал Цицерона, также оказавший глубокое влияние на формирование представления о человеке в новоевропейской культуре, был составной частью общих социально-политических взглядов Цицерона — его мыслей о «согласии сословий» как основе государственности и о «правителе республики» как об идеальном блюстителе такого согласия. Для того чтобы вести государство, «правитель республики» должен знать свою цель — общее благо и высшую справедливость — и владеть своим средством — красноречием, способным убедить, объединить и направить к этой цели всех граждан. Знание общего блага дает ему философия, владение всепобеждающим красноречием — риторика. Так в идеальном образе «правителя» гармонически соединяются эти две области культуры, так преодолевается разрыв между «жизнью созерцательной» и «жизнью деятельной», так возрождается древний полисный идеал человека — греческий «общественный человек», римский «достойный муж, искусный в речах». Портрет такого идеального деятеля Цицерон изображает в трактате «Об ораторе», противополагая его одностороннему суемудрию философов и суесловию ораторов. Сам Цицерон по мере сил старался воплотить этот идеал в собственной деятельности; он широко вводит в свои речи рассуждения на философские темы (о праве в речи «За Мурену», о «достойном досуге» в речи «За Сестия») и приписывает свой ораторский успех во многом этим непривычным и потому интересным для римского слушателя высоким темам. В целом реставрация такого полисного идеала «общественного человека» была, конечно, утопией, как утопией была сама реставрация полиса в Риме, но программное значение этого образа, объединяющего человека мысли и человека дела, осталось действенным для многих веков европейской культуры.
Цицерон — первый в европейской и мировой культуре писатель, за сочинениями которого с планомерной отчетливостью выступает его собственная личность. Таково было свойство его речей и в еще большей мере его писем, сохранившихся случайно и не назначавшихся для издания.
445
И наряду с мастерством Цицерона-оратора, широтой и многосторонностью Цицерона-мыслителя, это свойство не в последнюю очередь определило величие его образа в глазах потомства. Он представал как человек, доступный всем людским сомнениям, но умеющий строить свою жизнь по меркам высших ценностей, бороться за обреченное дело и погибнуть в борьбе. Он остался для Европы воплощением гуманизма республиканской античности. Средние века и Возрождение учились представлениям о человеке и его долге прежде всего по его философским сочинениям, эпоха Просвещения — по его политическим речам, XIX век — по его переписке; но его выдающееся место в системе культурных ценностей Нового времени всегда оставалось неизменным.
Третий аспект деятельности Цицерона — создание латинского литературного языка — настолько важен, что заслуживает более подробного рассмотрения.
Как и во многих других культурах, прошедших ускоренный путь начального развития, в римской культуре развитие формы отставало от развития содержания. Главной заботой предшествующего периода римской литературы было усвоение тематики и проблематики греческой культуры; выразительные же средства, какими располагал латинский язык, были еще весьма несовершенны; язык не знал стилистической разработки, в нем беспорядочно соседствовали архаические выражения древних жрецов и законодателей с новомодными греческими словечками, бытовые и просторечные обороты — с торжественными поэтическими речениями. Необходимо было упорядочить эту пестроту, дифференцировать средства литературного языка, от иных отказаться, а иные развить и обогатить. В области лексики речь шла о том, чтобы уточнить стилистическую окраску синонимов, отделить слова литературные от просторечных, поэтические от нейтральных и т. д. В области морфологии речь шла о том, чтобы нормализовать разнообразные варианты флективных форм, признать одни из них «правильными», а другие «неправильными». В области синтаксиса речь шла о том, чтобы унифицировать средства связи слов и предложений, соблюдать единство главного предложения и иерархию придаточных, что позволяло заключать сложную мысль в сложную уравновешенную фразу — период. Основой для стилистического отбора были обычаи разговорной речи образованного общества («вежество», urbanitas), подспорьем — греческие грамматические теории аналогии и аномалии; спорных вопросов оставалось много, и они служили предметом живейшего обсуждения и полемики. Так, Цезарь выступал поборником принципа аналогии, а Цицерон — принципа аномалии.
Иллюстрация:
Цицерон
Мрамор. I в. до н. э. Рим. Музей Капитолия
Главная заслуга в нормализации латинского языка принадлежит Цицерону. Его опорой в этом была теория трех стилей — высокого, среднего и простого (восемнадцать веков спустя, решая аналогичную задачу стилистической нормализации русского языка, к этой же теории и к опыту Цицерона прибег Ломоносов). В греческой риторике эта теория имела лишь вспомогательное значение, для Цицерона она стала одной из основных. Она позволила ему систематизировать запас слов, форм и синтаксических связей латинского языка применительно к различным стилям и функциям речи.
В том, что касается отбора слов, главной целью Цицерона было выделить тот средний, стилистически нейтральный слой лексики, который мог бы стать основой естественного, выразительного и гибкого прозаического слова. Архаизмы, поэтизмы, просторечные слова, греческие заимствования он из этого слога изгоняет. Делает он это в различной мере в различных жанрах: в письмах он держится разговорного языка,
446
напоминающего подчас Плавта или Теренция, щедр на неологизмы, пересыпает речь греческими словечками; в трактатах он строже держится изящного «вежества» и лишь по необходимости употребляет греческие философские и риторические термины; в речах он строже всего, и отступления от чистоты слога встречаются там лишь со специальным, обычно ироническим оттенком. В том, что касается расположения слов, главной целью Цицерона было создать латинский период — уравновешенную разветвленную систему взаимного подчинения главных, второстепенных и третьестепенных предложений, позволяющую одним умственным движением охватить большой и сложный комплекс мыслей. Период расчленяется на колена и на отрезки, они располагаются в сложной симметрии поворотов и контрастов и заканчиваются ритмически построенной словесной каденцией. Вот типичный для Цицерона сложноподчиненный период, которым открывается его речь в защиту поэта Лициния Архия: «Если я обладаю, почтенные судьи, хоть немного природным талантом, — а я сам сознаю, насколько он мал и бессилен; если есть во мне навык к речам, — а здесь, сознаюсь, я кое-что уже сделал; если есть для общественных дел и польза, и смысл от занятий моих над твореньями мысли и слова, от научной их проработки, — и тут о себе скажу откровенно, что в течение всей моей жизни я неустанно над этим трудился, — так вот, в благодарность за все, чем я теперь обладаю, вправе потребовать здесь от меня, можно сказать, по законному праву защиты вот этот Лициний» (Перевод С. П. Кондратьева). А вот более простой сложносочиненный период из той же речи — знаменитая похвала наукам, переложенная впоследствии Ломоносовым: «Другим радостям нашим ставят пределы и время, и место, и возраст, а эти занятия юность нашу питают, старость услаждают, в счастье нас украшают, в несчастье прибежищем и утешением служат, радуют нас дома, не мешают в пути, с нами они и на покое, и на чужбине, и на отдыхе». Искусное расположение сложноподчиненных и сложносочиненных периодов создает стилистическую перспективу, позволяющую легко следить за движением мысли и речи.
К сожалению, мы лишены возможности судить, насколько способствовали становлению латинского языка и стиля другие римские ораторы. Самым талантливым из них считался Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.), знаменитый полководец и диктатор, примыкавший в своих речах к аттицистам: «Будь у него больше времени для красноречия, он единственный из римлян мог бы померяться с Цицероном», — пишет о нем Квинтилиан. Его речи не дошли до нас, сохранились лишь его «Записки о галльской войне» и незавершенные «Записки о гражданской войне» — апология его военных и политических действий против галлов в 58—52 гг. и против Помпея в 49—48 гг. По-видимому, это лучший образец стиля римского аттицизма: простота, четкость, ясность, ограниченный до минимума запас слов (отчего Цезарь и стал в Новое время первым «гимназическим» автором), сознательное уклонение от всяких риторических прикрас (отсюда название «Записки», а не «История»), строгое стилистическое единство (ради этого речи персонажей, подчас довольно большие, переданы в косвенной форме), видимость полной объективности (рассказ о себе в третьем лице). Сила Цезаря — в его энергичных периодах, разом охватывающих обстановку действия, его направление, препятствия и исход: если Цицерон — мастер периода в рассуждениях, то Цезарь — мастер периода повествовательного. Вот пример («Галльская война», III, 5): «Когда битва шла уже более шести часов и у наших уже не хватало не только сил, но и снарядов, а враги наступали все упорней и уже начинали, пользуясь нашим изнурением, срывать вал и засыпать ров, — положение дошло до последней крайности, — тогда Публий Секстий Бакул, старший центурион, уже упомянутый как отличившийся множеством ран в нервийском бою, а с ним Гай Волусен, войсковой трибун, муж большого ума и доблести, спешат к Гальбе и заявляют, что теперь единственная надежда на спасение — это прорваться и рискнуть на крайнее средство».
Тонкость стилистических различий, достигнутая мастерами прозы в развитии латинского языка, необычайно велика. У Цицерона не только язык речей отличается от языка трактатов, а язык трактатов — от языка писем, но и среди самих речей ощутима разница между более свободным стилем речей судебных и более строгим — речей политических, а среди речей политических — между речами перед народом и речами перед сенатом; трактаты риторические написаны с более строгим отбором слов, чем трактаты философские, а среди писем чувствуется множество градаций между письмами деловыми и дружескими, письмами к дальним знакомым и к близким друзьям и т. д. (это особенно видно из сравнения с письмами корреспондентов Цицерона, стилистически крайне примитивными). Даже внутри одной и той же речи Цицерон заметно разнообразит язык и стиль: в «изложении» дела он обычно выдерживает простой стиль, в «заключении» — высокий. Приметой простого стиля считался юмор, примером высокого стиля — пафос; и в том и в другом Цицерон показал себя несравненным мастером. Сборники его шуток издавались отдельно, а пафос его настолько
447
ценился, что когда нескольким ораторам случалось делить между собою судебную речь, как часто делалось в Риме, то Цицерону всегда доверялась самая патетическая часть — заключение.
Авл Геллий (II в. н. э.) делает яркое сопоставление патетического отрывка речи Цицерона («Против Верреса», II, 5, 162) с отрывком речи талантливейшего из его предшественников — Гая Гракха; тема у двух ораторов одна и та же — жестокое наказание неповинного человека римским наместником-самодуром.
«Вот как об этом говорит Гай Гракх: «Недавно консул прибыл в город Теан Сидицинский. Жена его сказала, что хочет вымыться в мужской бане. Сидицинскому квестору дано от Марка Мария приказание освободить баню от моющихся. Жена сообщает мужу, что баню ей освободили недостаточно скоро и недостаточно почистили. Тотчас на площади был вбит столб, и к нему приведен Марк Марий, знатнейший человек в своем городе. С него стащили одежду, и он был бит розгами...». Когда же в подобном случае у Марка Туллия в речах вопреки законам и праву секут розгами или казнят злейшей казнью неповинных людей и римских граждан, то какая в его словах слышна скорбь, какие слезы, какая картина, какой бушует поток негодования и горечи! Вот как он говорит о Гае Верресе: «Вот он сам, распаляемый преступным гневом, вышел на площадь, взоры его сверкали, на лице была начертана жестокость; все трепетали, для чего он является, что намерен свершить? — как вдруг повелевает он этого человека схватить, на самой середине площади обнажить, связать и принести розги». Клянусь, уже самые эти слова... столько несут в себе волнения и ужаса, что кажется, не рассказ читаешь, а видишь своими глазами. Гракх не жалуется, не скорбит, а только рассказывает: «...с него стащили одежду и он был бит розгами». А Цицерон блистательным образом придает картине протяженность — не «был бит», а «били», говорит он: «секли розгами римского гражданина на городской площади Мессаны, и во все это время ни стона, ни звука не проронил несчастный сквозь боль и свист ударов, кроме одного только слова: «Я — римский гражданин!» — ибо так он был уверен, что довольно напомнить об этом звании — и удары смолкнут, и пытка не будет терзать его тело...» (Геллий. «Аттические ночи», X, 3).
Полной противоположностью Цицерону как по идейному содержанию, так и по художественному стилю выступает в эту же эпоху историк Гай Саллюстий Крисп (85—35 гг. до н. э.). Так же как Цицерон, он был не потомственный аристократ, а «новый человек» из италийского городка, пустившийся в политическую жизнь; но он был на двадцать лет моложе Цицерона, вырос под впечатлениями следующего этапа общественной борьбы и уже не мог верить в благотворность сенатского правления. Поэтому он выступил на стороне плебса, примкнул к Цезарю, участвовал в его походах: когда же Цезарь был убит, а борьба между его преемниками показала, что никто из них не думает об интересах плебса, а только о собственном всевластии, Саллюстий удалился от общественной жизни, мрачно осуждая все происходящее, но особенно — по-прежнему сенат. К этому периоду позднего пессимизма и относятся все его исторические произведения — «Заговор Каталины», «Югуртинская война» и «История» (последняя сохранилась лишь в отрывках).
Теоретическую основу для своего пессимизма он нашел в разработанной греческими учеными, прежде всего Посидонием, концепции нравственного вырождения общества после падения Карфагена, о которой уже говорилось. В прологах к обеим своим монографиям он подчеркивает, что такое вырождение есть неминуемое следствие трагической двойственности человеческой природы, в которой высокий дух и порочное тело непримиримо враждебны друг другу. Однако, несмотря на столь абстрактные предпосылки, Саллюстий не теряет из виду политической конкретности: носителем вырождения у него выступает не в равной мере все общество, а прежде всего правящая аристократия. Отсюда выбор моментов, описанных историком: война с нумидийским царем Югуртой (111—106 гг. до н. э.) впервые обнажила язвы сенатского правления, заговор Катилины (63 г. до н. э.) был вершиной нравственного разложения знати, а описанные в «Истории» годы (78—67 гг. до н. э.) показывали, как аристократия, даже получив полную власть из рук Суллы, оказалась неспособна ее осуществлять и сохранять. Но трагизм саллюстиевской «Истории» в том, что вырождающейся знати никто не противостоит: историк одинаково трезво смотрит на вождей знати и оппозиции. В «Югуртинской войне» он противопоставляет Метелла, полководца старой знати, и Мария, полководца из «новых людей», и, хотя сознает и показывает, что будущее — за Марием, однако понимает, что спасительной полноты древней «доблести» нет ни в одном из них: в Метелле она омрачена пороком надменности, в Марии — пороком необузданности. Точно так же в «Историях» противопоставлены фигуры Суллы (в начале) и Помпея (в конце); точно так же в «Заговоре Катилины» противопоставлены фигуры Цезаря и Катона Младшего, чтобы показать, как непоправимо расколот
448
идеал древней доблести на доблесть активную и доблесть пассивную, из которых одна оказывается пагубна, а вторая бессильна.
Значение этической концепции Саллюстия для истории литературы в том, что с нею в римскую историографию приходит психологизм. Чтобы изобразить исторические события как следствие падения нравов, Саллюстий должен выдвигать на первый план характеры действующих лиц: у него человек — творец истории. Когда важный персонаж впервые выступает в произведении, Саллюстий дает ему портретную характеристику; когда он начинает двигать действие, Саллюстий раскрывает его психологические мотивы в прямой речи. Так проходят перед читателем образы Катилины, Цезаря и Катона, Югурты, Мария, Суллы. Действия, берущие начало от их поступков, прослеживаются Саллюстием в их внутренней связи, авторские отступления членят изложение, словно на акты трагедии, авторские введения задают эмоциональный тон. Психологизм и драматизм — главные черты повествовательной манеры Саллюстия. Эта верность развития настроения занимает Саллюстия больше всего, подробности же фактического развертывания событий для него не столь важны: о месте действия, о хронологии, о деталях военных операций он обычно говорит лишь бегло и расплывчато, конспект подлежащих изложению событий готовил для него грек-секретарь, а сам историк сосредоточивал свои усилия исключительно на их художественном изображении.
Стиль Саллюстия соответствует избранному им трагическому тону повествования. Саллюстий выработал свой слог уже после того, как в римском красноречии воцарился гармонический, плавный, уравновешенный слог Цицерона; и Саллюстий вырабатывает свою манеру, сознательно отталкиваясь от моды. Он не воспевает современности, а судит ее; мера его суда — древность, время господства неиспорченной «доблести»; поэтому он берет своим образцом древнюю анналистическую прозу, перерабатывая ее бесхитростную тяжеловесность в глубоко индивидуальный словесный сплав, насыщенный архаизмами и поэтизмами. Он подчеркивает в современности не гармонию и связность, а разлад и разобщенность всех явлений; поэтому он избегает стройных и уравновешенных сложноподчиненных периодов, а вместо этого громоздит сложносочиненные, нарочно избегая симметрии и плавности, сводя рядом несхожие понятия и несхожие грамматические формы, стремясь любой ценой к напряженности и сжатости («бессмертной сжатости», по выражению Квинтилиана). Так, взятие города Капсы («Югуртинская война», 91, 5) передано словами: «Когда о том узнали горожане, — трепет во всех, небывалый страх, неожиданность беды, и вдобавок часть граждан за стенами в руках врагов становятся причиной сдачи города». Стилистическими образцами Саллюстия были из греческих авторов Фукидид, а из латинских — Катон; продолжателем Саллюстия в области стиля был величайший из римских историков, Тацит.
Примером мастерства Саллюстия может служить знаменитое описание Катилины («Заговор Катилины», 5), раскрытое в дальнейшем двумя его речами — перед выступлением заговорщиков и перед последним боем. «Луций Сергий Катилина, потомок знатного рода, был человеком сильного духа и тела, но нравом дурной и извращенный. Смолоду ему были милы междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданские распри, и в них он закалил свою юность. Тело его было выносливо в гладе, хладе и бдении сверх всякого вероятия; дух был дерзок, коварен, переменчив, в любом деле лицемер и притворщик, жадный до чужого, своего расточитель, страстный во всех желаниях, красноречия вдоволь, благоразумия мало. Ненасытный, вечно его дух жаждал безмерного, невероятного, недостигаемого... День ото дня все сильней бушевала его ожесточенная душа от скудости средств и сознания преступлений... к тому же его подстегивало разложение нравов государства, раздираемых пагубными и разновидными пороками: расточительностью и алчностью». И далее (гл. 15): «Запятнанный дух его, богам и людям ненавистный, ни во сне, ни наяву не мог найти покоя — настолько терзала совесть его воспаленный ум. Отсюда бледность его, дикий взгляд, то быстрая, то медленная поступь: само его лицо и наружность являли образ безумия».
Если проза времени гражданских войн как у Цицерона, так и у всеосуждающего Саллюстия была тесно связана с общественной борьбой, то поэзия этого времени, как уже говорилось, в основном проникнута духом удаления от общественной борьбы. Разрыв между миром личности и миром государственной жизни в Риме заставлял искать образцы поведения в аналогичной эпохе греческой жизни — в раннем эллинизме в его самых законченных, александрийских формах. Такому обращению содействовала и близость с греческими поэтами и учеными, нахлынувшими в Рим после римских завоеваний в Азии. Прежние жанры общественного звучания, анналистический эпос и драма, почти совсем заглохли. Вместо них господствуют эпиграммы, элегии, лирические мелочи, мифологические эпиллии, сатиры, дидактические поэмы.
449
Повышаются требования к отделке стихотворений, совершенствуются метрика и поэтический язык.
Как в прозе между Цицероном и Саллюстием, так и в поэзии между старшим и младшим поколениями современников гражданских войн лежит существенная разница в отношении к своему делу. Стихотворство было общедоступным мастерством уже для сверстников Цицерона. Варрон в годы своей политической деятельности сочинил 150 книг «Менипповых сатир» о римских нравах, с характерным для него антикварным любопытством воспроизведя в них не римскую гексаметрическую сатиру Луцилия, а греческую эллинистическую диатрибу Мениппа с ее смесью стихов и прозы; Цезарь в юности даже написал трагедию, а уже будучи у власти, во время дальнего похода, развлекался, описывая свой путь в поэме. Сам Цицерон был автором мифологических эпиллиев и переводчиком такого типично александрийского произведения, как астрономическая поэма Арата; а впоследствии он сочинил целых две апологетические поэмы о своих деяниях и о своем консульстве; впрочем, потомки относились к его поэтическому творчеству иронически. Однако для всех этих авторов, как и для многих других, о которых мы имеем сведения, поэзия была лишь развлечением в свободные от общественных дел минуты, серьезным занятием не считалась и ни в какое сравнение с красноречием и другими формами общественной деятельности идти не могла.
В младшем поколении, среди тех, кто был рожден в 90—80-е годы до н. э., положение было иным. Это сверстники Саллюстия, и они разделяют его разочарование в государственных делах. Многие из них даже неполноправные граждане (из провинциалов предальпийской Галлии) и доступ к политике для них закрыт; но для тех, кто участвовал в политической жизни своего времени, личная жизнь имела несравненно большее значение, чем для старшего поколения: дружеский круг, ученость и эстетство, вино и любовь доставляли им радости, утешавшие от общественных скорбей. Среди этих радостей не последней была и поэзия. Именно здесь раньше всего был усвоен александрийский художественный идеал — маленькие произведения, малоизвестные темы, изысканная ученость содержания, бесконечно тщательная отделка формы. Всеобщий восторг вызывала поэма Гельвия Цинны «Смирна» на тему мифа о кровосмесительной любви кипрской царевны Смирны, матери Адониса: маленькая поэма писалась девять лет и была до того темна, что тотчас по издании потребовала усилий комментаторов.
За поэтами нового направления закрепилось название «неотерики» (греч. neoteroi — «новейшие поэты») или «ученые поэты». Цицерон осуждающе называл их «подголосками Евфориона». Виднейшими среди поэтов этого кружка были Лициний Кальв (оратор-аттицист, сын историка Лициния Макра) и Валерий Катулл; с ними были близки упомянутый Цинна, поэт и критик Валерий Катон, экспериментировавшие с эпосом и сатирой Фурий Бибакул и Варрон Атацинский и другие поэты. Философией этих молодых людей было эпикурейство, политическая позиция их была двойственной: принадлежа в большинстве к средним слоям общества, они должны были тяготеть к цезарианской оппозиции, но смолоду усвоенное почтение к республиканским традициям толкало их на сторону сената и заставляло негодовать на общественные беспорядки, а Цезаря и Помпея осыпать бранными эпиграммами. Лишь постепенно, к концу 50-х годов, намечается переход неотериков на сторону Цезаря: Катулл незадолго до смерти успел примириться с Цезарем, но в его стихах это уже никак не отразилось.
Единственными поэтами того времени, сочинения которых дошли до нас полностью (или почти полностью), являются Лукреций и Катулл.
Тит Лукреций (ок. 95—55 гг. до н. э.) был автором дидактической поэмы «О природе вещей», посвященной Гаю Меммию, молодому политику, покровителю неотериков, и изданной после смерти автора Цицероном. Поэма представляет собой изложение эпикурейского учения в шести книгах: речь идет последовательно об атомах (кн. 1), об образовании сложных тел (кн. 2), о строении души (кн. 3), о чувственном восприятии (кн. 4), о развитии мира и человеческого общества (кн. 5), о явлениях природы (кн. 6).
В истории мировой культуры эта поэма осталась как оптимистический гимн познанию ради познания. Но для самого поэта и его современников цель поэмы была иной. Исходным пунктом для Лукреция служила мысль о бедствиях родины («недоброе время для отечества»), о терзающих римское общество пороках — честолюбии и алчности, к которым Лукреций прибавляет еще похоть. Причина этих пороков — суеверный страх смерти и жажда жизни, стремление взять от жизни все; это чувство поддерживается традиционной религией, внушающей страх перед богами и загробной жизнью (следует вспомнить, что именно в эпоху гражданских войн в Риме бурно распространяются мистические религии с учением о загробных муках и блаженстве; об одной из них, малоазийском культе Матери богов, подробно говорится
450
во второй книге поэмы). Поэтому, для того чтобы изгнать пороки, необходимо изгнать из душ религиозный страх, показать, что мир не управляется богами, а развивается по собственным незыблемым законам материи, что земля и человек являются ничтожно малой частью этого вечно меняющегося мироздания и что смерть — не индивидуальное бедствие человека, а общий закон развития Вселенной. Это сквозная мысль поэмы. В первой книге показывается, что смерть не есть уничтожение, а лишь перераспределение материи в Космосе; во второй книге говорится, что все возникающее разрушается, а Вселенная представляет собою бесконечное множество целых миров, порождающихся и гибнущих со всем, что в них обретается; в третьей книге утверждается, что и душа, будучи материальна, распадается вместе с телом, так что смерть для нее не страдание, а избавление от страданий; в пятой книге движение человечества к культурной зрелости трагически оттенено движением земной природы к бесплодной старости; а шестая книга заканчивается величественным предвестием торжества смерти на земле — описанием моровой язвы в Афинах (по Фукидиду).
Смерти не заперта дверь ни для свода небес, ни для солнца,
Ни для земли, ни для вод на равнинах глубокого моря, —
Настежь отверста она и зияет огромною пастью.
(V, 373—375. Перевод Ф. А. Петровского)
Только так, растворив мысль о собственной смерти в мысли о всеобщей смертности, человек может отрешиться от жажды жизни и погони за жизненными благами, обретя покой мудрости и глядя на мир, как путник с твердой земли смотрит на морские бури и крушения кораблей. Покой, досуг, столь мало ценимый традиционной римской общественной моралью, становится у Лукреция высшим счастьем. Этот путь к счастью через познание мира и примирение со смертью был открыт людям Эпикуром, и Лукреций не устает восхвалять Эпикура с почти религиозным благоговением, как спасителя человечества: «Богом он был, о мой доблестный Меммий, воистину богом!» Этот религиозный пафос объясним опять-таки только конкретно-исторической обстановкой духовного кризиса Рима эпохи гражданских войн, эпохи краха старых идеалов и мучительно-напряженного чаяния новых. Между тем именно этот пафос определяет два важных отличия Лукреция от его греческих эпикурейских образцов. Во-первых, это сдвиг главного внимания с этики на физику. Для Эпикура учение о мироздании было лишь вспомогательным средством к достижению спокойствия души, Лукреций же, стремясь подчеркнуть всеобъемлющее и всеобъясняющее величие эпикурейства, сосредоточивается именно на картине Космоса, безмерного, многовидного и единого в своих закономерностях. Это роднит его уже не с Эпикуром, а с ранними греческими натурфилософами, прежде всего с Эмпедоклом (о котором Лукреций упоминает с глубоким почтением). Во-вторых, это сама поэтическая форма произведения Лукреция: Эпикур пренебрегал поэзией, видя в ней одну пустую забаву, и пользовался сухой логической прозой, Лукреций же, чувствуя себя пророком, несущим Риму свет эпикурейского спасения, ощущает потребность в поэтической возвышенности и жреческой торжественности слога; и опять-таки это роднит его с натурфилософским эпосом Эмпедокла. Отсвет величия Эпикура в представлении Лукреция падает и на его римского пророка, и о своем поэтическом творении он говорит с важностью и гордостью (именно эти слова К. Маркс назвал «громовой песнью Лукреция». — Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд., т. 1, с. 480):
Дата добавления: 2016-07-11; просмотров: 1453;