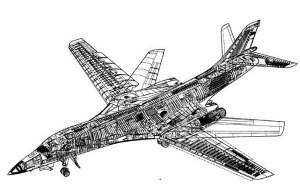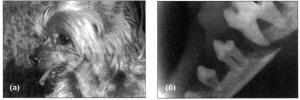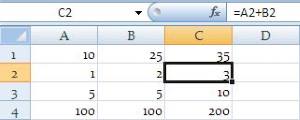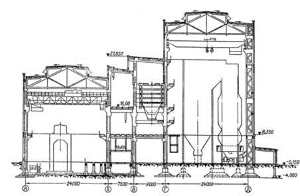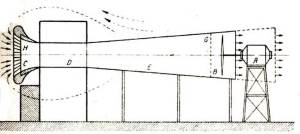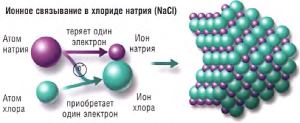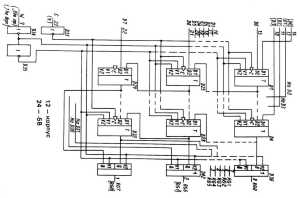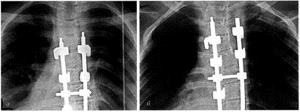Тело человека. Опыт социокультурной топографии
Всякое освоенное человеком пространство есть место обжитое, родное, свое, близкое, внутреннее, защищенное и защищающее. Оно противостоит неизведанному, дальнему, внешнему, чужому, враждебному, опасному. Между ними – граница. Граница очерчивает освоенную территорию и отделяет свое, внутреннее пространство от чужого, внешнего. Граница, предел – важнейший конституирующий признак любого культурного пространства. Ограничивание, полагание пределов – органически присущая природе человека потребность.
Вторым по значимости, дифференцирующим и структурирующим пространство действием является его центрирование и, соответственно, признаком пространства – центр. Пространство без центра невозможно так же, как и без границ. Центр и границы – взаимообусловленные характеристики конечного пространства. Это неизбежное следствие внутренней точки зрения на пространство, свойственной как мифологическому, так и обыденному сознанию.
Культурная ценность пространства убывает по мере удаления от центра и приближения к периферии и границам. Центры физического пространства и культурного (семиотического) часто не совпадают. Административный (культурный, сакральный и т. п.) центр может располагаться на периферии, даже у границ реального пространства, как, например, алтарь храма, «красный угол» русской избы или Санкт–Петербург в территориальных пределах России.
Пространство в мифологической картине мира антропоморфно и антропоцентрично. Мир – макрокосм – уподобляется человеку – микрокосму (Земля – центр, сердце Вселенной, небо – голова, солнце и звезды – глаза и т. д.). Часто в этой модели есть и промежуточное звено – дом, в том числе храм, «Дом Бога» («Тело Господне»). Антропоморфность пространства поддерживается опытом повседневной жизни, использующей части тела как единицы малых мер длины (фут, пядь, локоть), названия частей бытовых предметов (носик, ушко, ручка и т. п.); антропоцентричность – опытом обыденного сознания: преобладающий способ восприятия и ментального моделирования пространства в повседневном бытии – от человека, местоположение которого становится центром.
Антропоцентричность и антропоморфность пространства повседневности дают основание более детально разобрать, как представлено тело человека в повседневной культуре, какими культурными смыслами наполнены части тела человека.
Если двигаться по «территории тела» сверху вниз, то первая и важнейшая, формирующая в значительной мере облик человека в целом телесная составляющая – голова.
Голова – кульминация телесного верха. Одна из ее функций – управление телом. «Теряя голову», «лишаясь головы» в состоянии аффекта или сильного увлечения, человек утрачивает контроль над поведением. Язык фиксирует управленческий статус головы,[296] неслучайно понятие «главенство» синонимично «господству», «преобладанию», «могуществу». В мифах и сказках непобедимость – свойство многих многоголовых существ.[297] Как орган мышления, «голова» – синоним эффективной мыслительной деятельности. Быть «с головой», «иметь голову на плечах» – значит быть умным, делать что–то умно, хорошо. Мысль «приходит в голову», «рождается в голове». По мнению исследователей, слова со значением «разум, понимание, ум» этимологически соотносятся со словами, имеющими значение «родить, половые органы».[298] Голова, рождающая мысль и материализующая ее в слове,[299] причастна рождению всего сущего. Неспособность к мыслительной деятельности или ее неэффективность русский разговорный язык определяет как «безголовость», «безмозглость», «отсутствие головы на плечах». Отделение головы от корпуса, реальное или воображаемое, метафорическое, и способность головы представлять (как pars pro toto[300]) тело целиком («сложить голову», «отдать голову» – умереть) подтверждает главенство головы в составе соматического целого.
Лицо – основной «участник» вербальной и паралингвистической коммуникации. Лицо всегда было зоной высокой информационной активности, постоянно работающим «приемно–передающим информационным устройством». Информацию о человеке можно «считать» с его лица, и, хотя человеческая индивидуальность проявляется во всем: в походке, жестах, интонациях голоса и т. д., все же основная культурная идентификация и самоидентификация человека всегда осуществлялась по лицу индивида. Отсюда выражения: «иметь лицо» в значении «иметь индивидуальность», «потерять лицо» в смысле утраты социального статуса и (или) моральной смерти; определение «безликость» – как констатация отсутствия своеобразия, индивидуальности. Говоря о «подлинном лице» человека, имеют в виду «лицо его души», его внутреннюю, духовную сущность.
В культуре ХХ в. отчетливо обнаруживается тенденция обезличивания человека. Она запечатлена в изображениях головы без лица, например, в работах итальянского художника Дж. Де Кирико. Муляжные фигуры его произведений пугающе безлики в прямом смысле слова. Впрочем, они и в целом не воспринимаются как живые. Отсутствие лица лишь продолжение отсутствия живого тела. Иное дело у Р. Магрита. Его герои похожи на живых людей, но они также без лица. Тема скрытого лица является одной из ведущих в творчестве художника и представлена в таких работах, как «Первопричина удовольствия» («Le Principe du plaisir», 1937), «Мужчина в котелке» (<^а Homme au chapeau melone», 1964), «Тайная жизнь» («La vie secrete. IV», 1928). В «Тайной жизни» обращенная затылком к зрителю и «лицом» к зеркалу мужская фигура отражается в зеркале также со спины. Зритель видит дважды, в «реальном» и зеркальном пространстве только спину и затылок.
Советский вариант унификации и обезличивания воплощен в «крестьянской серии» работ К. Малевича 1928–1932 гг. («Жатва. Эскиз к картине», «Женщина с граблями», «Крестьяне» и др.), где зритель видит итоговую «формулу» визуальной стереотипизации советского человека конца 1920–х – начала 1930–х гг.
Высокая семиотичность головы, особенно лица, проявляется также в том, что особую и богатую семантику имеет каждая ее зона. Здесь отчетливо заявляют о себе гендерные различия. Скажем, длина волос на голове – традиционный для европейской культуры знак гендерной дифференциации. Европейская культура выработала стереотип, согласно которому длинные волосы считались признаком женственности, «хрупкости». Хотя в истории Европы были периоды, когда мужчины носили длинные волосы (скажем, молодые дворяне в XIII–XVI вв.,[301] романтики – в XIX в.), по большей части мужчины стригли их коротко, а женщины сохраняли естественную длину волос, заплетали косы, укладывали волосы в высокие прически. Короткая «мужская» стрижка как знак нового распределения половых ролей стала возможной для женщин под влиянием политических событий раньше других стран – во Франции, во время Великой революции 1789–1792 гг., и распространилась по всей Европе в связи с изменением экономического положения женщин, обретением гражданских прав, вовлечением их в промышленное производство, влиянием спорта, т. е. в XIX–ХХ вв. В XX в. короткая стрижка стала основной формой прически у женщин.[302] Утвердившись как норма, она обрела многообразие фасонов и смыслов: к первоначальным вариантам причесок alagargon, делающим облик женщины мальчишеским, добавились многочисленные варианты женственных и интригующих укладок, прически для «деловых женщин» и пр.
Среди важнейших культурных характеристик волос – их цвет. Из трех наиболее распространенных у европейцев колористических характеристик волос – брюнеты, шатены, блондины – наибольшую эстетическую и культурную ценность имеют светлые волосы разных оттенков – от льняных до светло–коричневых. Здесь имеют место коннотации с солнечным светом, издревле обожествлявшимся, и золотом, также имеющим сакральную семантику. Что касается гендерной дифференциации, то – в соответствии с общими установками культуры – красивые (светлые) волосы гораздо важнее для женщины, нежели для мужчины.[303] Мода на светлые волосы сохранялась на протяжении веков: от античности до настоящего времени. Упоминания о популярности светлых и золотистых волос у гречанок и римлянок можно найти чуть ли не в каждой работе, посвященной античной повседневности. В средневековой книжной миниатюре положительные женские персонажи, как и на полотнах мастеров Возрождения – Мадонны и Венеры – русоволосы. Ренессансная мода на светлые волосы побуждала венецианок принимать многочасовые солнечные ванны на крышах домов, «выжигая» волосы, смоченные специальными снадобьями. Если была возможность, волосы специально высветлялись. Испанские и особенно итальянские поэты XVII в. поют хвалу златовласым «прекрасным дамам». Мода на черные волосы – редкость. Ею отмечены, например, первые десятилетия XVII в., когда чуть ли не впервые стали отдавать предпочтение не светлым, но черным волосам. Приверженность светлому цвету волос сохранила, в целом, и современная мода.
Второй после головы и лица телесной универсалией, обладающей повышенной культурно–семиотической значимостью, является рука в целом и кисть руки – в особенности. Развитая кисть руки, наряду с прямохождением, – признак Homo sapiens, отличающий его от животных, знак культуры.
Руки – естественные орудия труда. Фразеологизмы со словом «рука»: «золотые руки», «набить руку» – означают профессионализм в какой–либо деятельности.
Сохранившиеся образы руки относятся к христианской традиции. Созидательно–творческий потенциал руки символически воплощен как прерогатива бога («Рука Бога». Фреска из церкви Сан–Клемента. Барселона. Испания. XI–XII вв.; Микеланджело. Роспись плафона Сикстинской капеллы. Сотворение Адама. 1508–1512;О. Роден. «Рука Бога». 1897–1898. Музей Родена. Филадельфия). О. Роден, последовательно развивая тему руки, воплотил и симметричный божественному творению образ дьявольского совращения: «Рука дьявола, удерживающего женщину» (1902. Музей Родена), и образ руки художника–творца: «Рука Родена, удерживающая торс» (1917. Музей Родена).
Рука в целом издавна – символ власти. Власть держат именно «в руках». Отсюда – «держава» как государство и «держава» – сфера – как символ власти. Самодержец, державный правитель держит державу–сферу в правой руке при коронации, самой же державой правит, управляет, реализуя властные полномочия. Лица, имеющие такие полномочия, – «власть предержащие». Держать и не выпускать (отдавать) может лишь сильная рука. Поэтому «сильная рука» – синоним власти, власть «берут в свои руки». «Длинные руки» власти достают самые отдаленные пространства.
В словах «правитель», «управлять», «правая рука» отражена одна из фундаментальных оппозиций, с помощью которых человек строит картину мира, оппозиция правое/левое. Управляет правая рука, ибо правда, правота, правильность – на правой стороне. Доминирование правой руки у большинства людей поддерживается культурой, которая строит на ее основе правила повседневного, этикетного и ритуального поведения. В русской православной традиции левая рука – шуйца – считалась некрещеной. Все, что по правую руку, справа, соотносилось со счастьем, высоким социальным статусом, мужским началом, активностью, по левую руку, слева – с несчастьем, низким статусом, женским началом.[304] Связь правой стороны, правого («жизни», «честности», «ловкости», «внутреннего», «священного», «хорошего», «красивого») с мужским началом, левой стороны, левого – с женским («смертью», «профанным», «плохим», «внешним», «враждебным», «некрасивым») является культурной универсалией, свойственной подавляющему большинству культур.
Значительная же часть работы по обслуживанию собственного тела: умывание, одевание, раздевание, еда, бритье, макияж и вовсе остается заботой своих рук. Ручной во многом остается домашняя работа, несмотря на начавшуюся во второй половине ХХ в. ее машинизацию. Поскольку ведение домашнего хозяйства традиционно было, а в значительной мере и сегодня является уделом женщины, руки, ведущие это хозяйство, – женские руки.
Развитость или неразвитость мускулатуры руки, размеры и форма ее кисти, пальцев (наряду с цветом кожи) традиционно были признаками социального статуса и профессиональных занятий. В живописных портретах основное внимание после лица уделялось именно рукам. Рука в перчатке или держащая перчатку подчеркивала принадлежность к привилегированному сословию, – как на тициановском «Портрете короля Карла V» (Мюнхен. Старая пинокатека) или в «Автопортрете с пейзажем» А. Дюрера (1498. Мадрид. Прадо); холеные, тонкие пальцы, узкая кисть дополняли характеристику аристократа, – как в «Портрете молодого мужчины» Рафаэля (1516. Краков. Народный музей) или «Автопортрете» А. ван Дейка (конец 1620 – начало 1630–х гг. Эрмитаж);грубая и широкая ладонь с деформированными от тяжелой физической работы пальцами неотъемлема от фигуры крестьянина или рабочего.
Телесные органы, о которых шла речь, принадлежат верхней части тела. Верх и низ, деление тела человека по вертикали имеют повышенную культурную значимость, которая связана с универсальной культурной оппозицией верхнего и нижнего, горнего и дольнего, небесного и земного. Телесный «низ» со всем, что ему принадлежит, – органами мочеполовой системы, анусом, ягодицами и ногами, – был на протяжении веков табуированной, «запретной зоной» органической жизни, ежедневно демонстрирующей человеку животную ипостась его натуры. Современному европейцу досталось в наследство сформированное христианской моралью негативное, отрицательное и пренебрежительное отношение к этим частям его тела как к чему–то низменному и грязному. Но христианство лишь усугубило и обострило различие между функциями телесного верха и функциями телесного низа, которое существовало еще в первобытной культуре.
Презрение к «телесному низу» в христианстве противостоит тому большому значению, которое придавалось ему во всех первобытных культурах и древних цивилизациях, обожествлявших расположенные там половые органы, причастные к зачатию и рождению новой жизни. В античной культуре способность зарождения новой жизни символизировала фаллическая скульптура Диониса (Вакха).[305] Культ другого божества – Приапа – был особенно распространен в римскую эпоху. Его изображения встречаются в бесчисленных терракотовых статуэтках, геммах, амулетах, мраморных рельефах, фресках, могильных камнях. В частных домах фонтаны и светильники в виде фаллоса связывали в единый символ жизнетворческую энергию человеческой плоти, воды и света.[306]
Другая функция фаллических изображений – устрашение и попрание врагов, сохранение от всякой нечистой силы, порчи, сглаза и колдовства. Она известна многим архаическим культурам, широко использовалась и в античную эпоху. В Древней Греции амулеты в виде фаллоса носили на шее для предохранения от сглаза. Нередко они делались из золота и драгоценных камней.[307]
В качестве оберега в архаических и традиционных культурах использовалось также символическое изображение коитуса как кукиша. Известны хранящиеся в музеях амулеты в виде руки с кукишем. Древние германцы помещали такого рода изображения на крышах своих домов. Широкое хождение этот знак в виде жеста, слова и амулета имел в эпоху Средневековья и Возрождения.[308] Славяне использовали кукиш для отгона нечистой силы и как магическое средство лечения некоторых болезней.[309] В процессе деритуализации и десакрализации повседневной жизни магический смысл многих знаков, жестов и словесных выражений стерся, остатался лишь оскорбительный. Широкое использование матерной брани человеком традиционной культуры, возможно, было связано с тем, что он «постоянно «ощущал» присутствие нечистой силы и все неудачи склонен был приписывать ее козням».[310]
Культурно–топографическая характеристика телесного низа как сексуально–эротической зоны человеческого тела в большей мере, чем в описании верха, головы и рук, учитывает половой диморфизм, функциональные и зональные различия мужской и женской сексуальности.
Эротически стимулирующий характер имеет воспринимаемое зрением женское тело в целом, в большей степени – обнаженное или полуобнаженное, в связи с тем, что в повседневной жизни большая часть женского тела скрыта под одеждой.
В Древней Греции право на публичную демонстрацию наготы имели только боги, герои и победители общегреческих игр. Сакральное пространство храма, куда помещались их изображения, освящало наготу. «Божественной» делали ее также положительные эстетические характеристики: эталонность воплощенной в бронзе или мраморе фигуры и мастерство исполнения.
Перенесенная в пространство искусства, когда миф уже не только проживается в обряде–ритуале, но и может разыгрываться актерами в театре или, изображенный на стене (холсте и т. п.), оказывается в пространстве частного дома, музея, нагота становится мифологизированной. И в этом качестве – допустимой для публичного предъявления. Таковы сценки на мифологические сюжеты, которые разыгрывались в средневековой Европе при торжественных въездах правителей, или нимфы в «Сельском концерте» Джорджоне (1508–1509. Париж. Лувр).[311]
В случае, когда изображение не отсылает к мифу и мыслится зрителем в контексте современной повседневности, нагота становится публично неприемлемой, воспринимается как оскорбление общественной нравственности. Именно это было причиной скандала вокруг «Олимпии» (1863. Париж. Лувр) и «Завтрака на траве» (1863. Париж. Лувр) Э. Мане. Для того чтобы «Олимпия» перестала шокировать и утратила «привкус» современности, «мифологизировалась», должно было пройти более сорока лет. Лишь в начале ХХ в. картина была включена в экспозицию Лувра. Работы Э. Мане положили начало процессу освобождения жанра «ню» от мифологического контекста.
Несколько веков существования в искусстве мифологизированной наготы утвердили право на публичную демонстрацию обнаженности. Мифологизация осталась и существует до сих пор как дань традиции, как реликт, главным же способом «легализации» наготы становится эстетизация.
Решающий вклад в становление «эпохи эстетизированной наготы» внесла фотография. Она принципиально изменила эстетику и характер социального функционирования ню–изображений. С появлением и распространением массовых эротических журналов ню перестало быть редкостью, доступной лишь образованной публике. Помещенное в журнале, рассчитанном на индивидуальное восприятие в домашних условиях, ню–изображение утратило качество публичности, обрело интимность.
Эстетизированная нагота женского тела как знак «неповседневного» активно используется в рекламе. Она вся построена на внедрении небудничного в повседневность и очень нуждается в знаках небудничности. Обнаженное тело женщины – сильный и устойчивый знак отмены норм повседневно–публичного поведения, в чем и состоит его главный соблазн для рекламы. Это раскрепощает и провоцирует покупку рекламируемого товара.
Жанр ню, представляя женское тело в его тотальности, в некоторых своих разновидностях либо выделяет, акцентирует какую–то часть тела, либо демонстрирует отдельные части, фрагменты женского тела. Такая акцентуация (фрагментирование) обусловлена культурными традициями, формирующими проявления мужской сексуальности. В сексуально–эротическом восприятии женщина дана как тело, объект, предмет осознанного или бессознательного влечения. Отдельные зоны женского тела, вызывающие повышенное внимание, визуально выделяются. Европейская культура и в ее обыденных проявлениях, и в искусстве выделяет женскую грудь, ягодицы и ноги. Женский костюм, начиная с эпохи Средневековья, поднимает и подчеркивает грудь корсетом и декольте, акцентирует талию.
Женские ноги вплоть до начала ХХ в. были скрыты костюмом, вероятно из–за очевидной связи с «телесным низом». Грудь и ноги женщины остаются и сегодня в центре внимания массовой культуры, ориентирующейся на «архетипы» обыденного (в данном случае мужского) сознания. Стремление соответствовать навязанному культурой эталону корректирует и видение собственной фигуры женщинами, которые склонны преувеличивать в сантиметрах действительные размеры груди и бедер и уменьшать размеры талии.[312]
В отличие от мужских, женские гениталии не стали автономным, самодостаточным, визуально воспринимаемым культурным символом, отделенным от тотальности телесного целого. В этом качестве они, как правило, изображаются условно, часто в виде кольца или круга, и существуют в единстве со знаком мужского начала, как древнеегипетская эмблема рождения и смерти (крест, соединенный с кругом, или шивалингам – столб, стоящий на кольце). Вербальные обозначения и символы, являющиеся универсальными для разных культур, представляют женские половые органы как пустоту, дыру, вместилище или ограниченную часть возвышающегося пространства: комнату, крепость, а также ворота. Этими же словами и метафорами описываются и древнейшие архетипы женского начала вообще.[313]
Преобладание в европейской культуре изобразительных, визуально воспринимаемых символов мужского начала (в то время как соответствующие словесные обозначения распределены почти поровну между полами[314]) связано, очевидно, с гендерными ролями, культурным доминированием мужчины. Половая символика «прославляет» мужскую потенцию и фиксирует лишь первый этап прокреации, к которому причастен мужчина. Два других этапа: вынашивание и рождение ребенка, а также готовность к прокреации имеют отрицательную или амбивалентную культурную репрезентацию.
Знаком готовности женского организма к деторождению является менархе. Появление и установление женского «цикла» по своей природной сути симметричны ойгархе (способности мужского полового органа к эякуляции). И если ойгархе, как правило, оформляются обрядами инициации, то месячные, и без того существенно осложняющие жизнь женщины, в большинстве известных культур, культур патриархатного типа, становятся поводом для ее социального принижения.
Регулярное кровопускание, которому природа подвергает женщину, связанные с ним недомогания, родовые муки часто воспринимались как «месть» богов, указание на нелюбовь высших сил к женщине, на ее связь с темными, нечистыми силами, что делало женщину в глазах мужчин существом загадочным и опасным. В «критические» дни женщина считалась «нечистой», оскверненной демонами, неприкасаемой. Бытовало представление, что не только менструальная кровь, но и слюна, и даже дыхание женщины в период месячных ядовиты. Кровь могла быть использована для ворожбы и наведения порчи. Отсюда – «менструальные табу» не только на половые связи, но и на сельскохозяйственные и другие домашние работы, контакты с оружием, орудиями труда, тем более – с сакральными предметами, запрет на исполнение религиозных обрядов.[315] «Критические дни» перестали быть поводом для социальной обструкции женщины лишь в культуре конца ХХ в. «Клеймо» нечистоты, которым с ветхозаветных времен была отмечена менструирующая женщина, сохранилось лишь в эвфемизме «критические дни».
Другим телесным знаком прокреативной функции женского организма является живот, округляющийся во второй половине беременности. Круглый живот не только не подвергался символической семантизации, но и весьма неохотно допускался для публичной демонстрации как в повседневной жизни, так и в изображениях, отсылающих к вечности. Считалось, что «тяжелой» женщине «неудобно» появляться на людях, если же это ей делать приходилось, культурные предписания требовали скрывать округлившийся живот.
В античном искусстве нет образов беременных женщин, поскольку в древних поверьях беременность считалась опасным состоянием, во время которого женщина была открыта воздействию как добрых, так и злых сил. Она должна была держаться подальше от общества, чтобы не навредить окружающим, и чтобы окружающие, в свою очередь, не навредили ей. Опасность выкидыша также диктовала такое поведение: «родовая кровь» в системе мифологического мышления считалась еще более опасной, чем менструальная.[316] В традиционной славянской культуре беременная, с одной стороны, почиталась как олицетворение плодородия, как существо, наделенное благотворными магическими способностями: целительными, охранительными (отсюда – языческий культ рожаниц, изображения рождающей женщины или женщины–лосихи в традиционной вышивке[317]), с другой – беременная считалась нечистой и опасной для окружающих. Это объясняли присутствием «в ней двух душ и близостью к границе жизни и смерти», беззащитностью перед нечистой силой.[318] Родившая женщина считалась ритуально нечистой до совершения обряда очищения водой.[319]
В эпоху Возрождения и Нового времени изменение отношения к телу человека сделало возможной «многоплановую» разработку темы беременности в изобразительном искусстве. В мифологически–праздничном контексте она «воспета» в «Весне» С. Боттичелли (1477–1478. Флоренция. Уфицци), погружена в трогательно–торжественную атмосферу предстояния (перед Вечностью) семейной пары в «Портрете супругов Арнольфини» Я. ван Эйка (1432. Лондон. Нац. галерея), одета в праздничные, «царские» одежды и мифологизирована во «Флоре» Рембрандта (1634. СПб. Эрмитаж). В европейском и русском искусстве XVIII и XIX вв. подобных изображений нет, а в искусстве ХХ в. они единичны. На диптихе Г. Климта «Надежда» его героини существуют в характерном для модерна и символизма мире изысканного эротизма и демониады. В этой работе основателя Венского cецессиона просматривается и традиционная двойственность отношения к беременности. В первой картине – «Дьявол в теле. Надежда (I)» (1903. Оттава. Нац. галерея Канады) – беременная (субтильная, в духе идеала «конца века») впервые, пожалуй, изображена обнаженной (корпус – в профиль, голова повернута к зрителю). Название картины и находящийся рядом с женщиной оскалившийся черт недвусмысленно говорят, что женщина чревата дьяволом. Характерный для символизма и модерна инфернальный мотив предполагает расширительное понимание: эпоха одержима дьяволом, Воланд одерживает верх в извечной борьбе Добра и Зла. Однако «последнее слово» за Надеждой II («Ожидание в золоте. Надежда II». 1907–1908. Нью–Йорк. Музей современного искусства). Закрывающий три четверти пространства картины «колокол» платья погруженной в счастливую грезу беременной женщины «звучит» мощными аккордами красочного геометрического орнамента, в котором доминирует излюбленное Климтом «царское» золото.
Освобождение от архаического страха перед беременной женщиной произошло – как и в случае с месячными – лишь во второй половине ХХ в.
Телесный низ завершают ноги, которые многопланово и разнообразно представлены в культуре. Они обеспечивают основное для человека, вертикальное положение тела в пространстве и главное видовое отличие от прочих млекопитающих – прямохождение. Основная функция ног – передвижение. Способность стоять и передвигаться на ногах является одним из признаков здоровья и полноценности («стоять на своих ногах», «встать на ноги»). Умереть – значит «протянуть ноги». Во время переходных обрядов человек, символически умирая, лишается на время способности ходить. Ходьба пешком, будучи древнейшим способом перемещения человека в пространстве, не отменяется и сегодня, при самых быстрых и современных средствах передвижения. Внутри дома, жилища, в помещении человек по–прежнему передвигается пешком. По улицам и площадям деревень и городов – в значительной мере также пешком. Пешеход – центральная фигура дорожного движения, представленная в виде символа в дорожных знаках. Ходьба до сих пор органически вплетена в ткань повседневной жизни. Иные способы передвижения, обеспечивающие больший комфорт или скорость и в прошлом, и сейчас доступны лишь привилегированному меньшинству и служат знаком высокого социального статуса.
Ноги функционируют в семантическом поле следующих основных смысловых оппозиций: «мужское» / «женское»;«прямизна» / «кривизна»;«открытость» / «закрытость»;«босоногость» / «обутость». Первая из оппозиций важна не сама по себе, а именно в гендерном, даже точнее – телесно–гендерном смысле. Оценка ног с точки зрения их стройности является эстетической и гендерной универсалией. Это общее требование как к ногам мужчины, так и к ногам женщины. Фигуры богов (богинь) и героев античности, образы христианской иконографии (напр., Христос в сценах распятия или снятия с креста), современные топ–модели, воплощающие идеал телесного совершенства, демонстрируют стройность ног. Однако в силу эротической окрашенности мужского видения женской фигуры, о которой уже шла речь, прямизне женских ног придается большее значение, чем стройности ног мужских. Нравственная и эстетическая оценка открытости или закрытости ног также зависит от их «половой принадлежности». Даже открываясь, ноги могли быть «одетыми» (в чулки, трико, слаксы), «полуодетыми» (в носки, гольфы) или нагими. Наконец, оппозиция «босоногость» / «обутость» обретает смысл только в связи с костюмом и как элемент костюма. Отсутствие обуви становится знаком только при наличии других элементов костюма. При полной или почти полной (набедренная повязка, плавки) наготе босые ноги – просто «продолжение» обнаженного тела. В этом случае знаком является нагота в целом, маркирующая либо бытовую ситуацию (купание, сон) или – как в средневековом феномене юродства – свободно избранную позицию вызова профанному миру.
Как свидетельство принадлежности к сакральному миру босоногость широко используется в христианской иконографии. В подавляющем числе изображений Христа, Девы Марии, апостолов, там, где они показаны в полный рост, ноги – без обуви. Это характерно и для католической, и для православной традиции. Так, в миниатюре XI в. Книги евангельских чтений Генриха II «Св. Петр принимает ключи» и Иисус, и апостолы босые. На рельефе тимпана западного портала собора в Отене «Страшный суд» (XII в.) Христос, восседающий на троне, также без обуви. В «Сикстинской мадонне» Рафаэля (1515–1519. Дрезден. Картинная галерея) Дева Мария ступает по облаку босыми ногами. В «Троице» А. Рублева (1420–е гг.) фигуры на переднем плане изображены без обуви. В «Распятии» Дионисия (1500. Москва. ГТГ) Иоанн также без обуви.
Если в повседневной жизни отсутствие обуви может быть гендерно–неспецифичным, то наличие ее в праздничной одежде обязательно является красноречивым свидетельством социально–классовой (социально–групповой) и, конечно, гендерной принадлежности. В городе, на улице и площади босые ноги в сочетании с обносками или лохмотьями, прикрывающими тело, – элемент костюма нищего, бродяги, маргинала, знак, маркирующий низкий социальный статус (отсюда – «босяк»).
Ноги, кроме двух основных положений тела в пространстве – «стоя» и «сидя», о которых говорилось, – обеспечивают еще одно, весьма значимое положение: «на коленях». Коленопреклонение (и близкая по семантике поза простертости ниц, проскинезы) широко распространено во многих культурах как демонстрация подчиненности, униженности (буквальной!), наказанности, покорности и смирения. При появлении светских правителей или церковных иерархов во время каких–либо торжеств народ обычно падал на колени. На Руси, в России коленопреклонение, простирание ниц как знаки смирения и покорности сохранялись до XVII–XVIII в. Стояние на коленях во время молитвы (службы) осталось нормой религиозных обрядов у иудеев, греков, римлян, а также в христианстве, особенно католическом его варианте.[320]
Дата добавления: 2021-06-28; просмотров: 529;