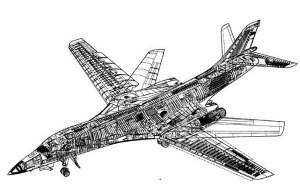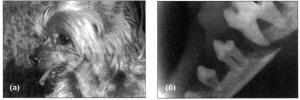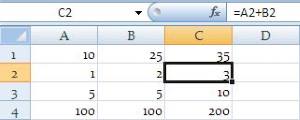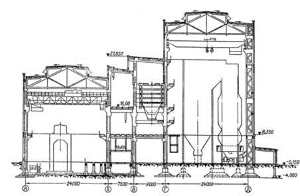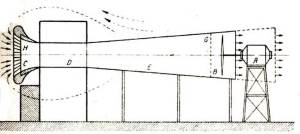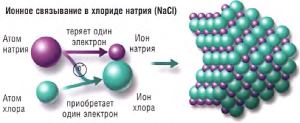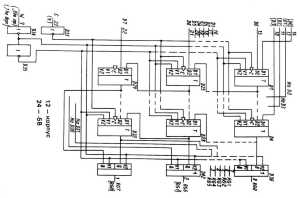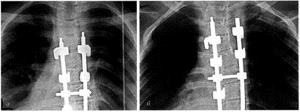Поэтика «Записок охотника»
Сходным образом и поэтика «Записок» включает в себя различные по происхождению эстетические слои. По многочисленным внешним приметам художественного порядка тургеневский цикл – типичное произведение натуральной школы, наиболее осязаемо выразившее ее ориентацию на «научную» парадигму. По жанру «Записки охотника» – серия очерков, как и знаменитый сборник 1845 г. «Физиология Петербурга», литературный манифест «натурального» направления, в котором впервые в русской литературе были предложены образцы «физиологического» описания, восходящего к французским «Физиологиям», изначально задуманным как художественные аналоги дотошных и беспристрастных «научных» описаний подлежащего изучению природного объекта. «Физиологической» стилистике отвечает в «Записках» уже сама фигура охотника, представляемого в качестве непосредственного очевидца событий, фиксирующего их, как и положено очеркисту, с протокольной, «фотографической» точностью и минимумом авторской эмоциональной оценки. Ярко «физиологичны» у Тургенева также портретные и пейзажные описания – непременная часть общей стилевой композиции каждого очерка. Они «по‑научному» подробны, обстоятельны и мелочно детализированы, – в полном соответствии с требованиями «микроскопического» метода натуральной школы, когда описываемый объект изображался как бы увиденным сквозь микроскоп – во всех многочисленных мелких подробностях своего внешнего облика. По словам К. Аксакова, Тургенев, описывая внешность человека, «чуть не сосчитывает жилки на щеках, волоски на бровях». Действительно, тургеневский портрет едва ли не избыточно подробен: даются сведения об одежде героя, форме его тела, общей комплекции, при изображении лица детально – с точным указанием цвета, размера и формы – описываются лоб, нос, рот, глаза и т. д. В пейзаже та же утонченная детализация, призванная воссоздать «реалистически» правдивую картину природы, дополняется массой сведений специального характера.
Справедливо мнение, что на птиц автор «Записок охотника» смотрит как орнитолог, на повадки собак – как кинолог, на жизнь растений – как ботаник.
Вместе с тем в тургеневском портрете и пейзаже, несмотря на всю их бросающуюся в глаза «реалистическую» натуральность, скрыто присутствует другая – романтическая традиция изображения природы и человека. Тургенев словно потому и не может остановиться в перечислении особенностей внешнего облика персонажа, что изображает не столько разновидность порожденного «средой» определенного человеческого типа, как это было у авторов «Физиологии Петербурга», сколько то, что у романтиков называлось тайной индивидуальности. Средства изображения – в позитивистскую эпоху – стали другими: «научными» и «реалистическими», предмет же изображения остался прежним. Герои «Записок охотника», будь то крестьяне или дворяне, «западники» или «восточники», не только типы, но и всякий раз новая и по‑новому живая и таинственная индивидуальная душа, микрокосм, маленькая вселенная. Стремлением как можно более полно раскрыть индивидуальность каждого персонажа объясняется и такой постоянно используемый в очерках прием, как «парная композиция», отразившийся в том числе и в их названиях («Хорь и Калиныч», «Ермолай и мельничиха», «Чертопханов и Недопюскин»), и прием сравнения героя с «великой личностью». Точно так же и природа в «Записках охотника» имеет свою душу и свою тайну. Тургеневский пейзаж всегда одухотворен, природа у него живет своей особой жизнью, часто напоминающей человеческую: она тоскует и радуется, печалится и ликует. Та связь между природным и человеческим, которую открывает Тургенев, не имеет «научного» подтверждения, зато легко может быть истолкована в духе воскрешенной романтиками (прежде всего иенскими и романтиками‑шеллингианцами) архаической концепции взаимосвязи человеческого микро– и природного макрокосма, согласно которой душа каждого человека таинственными нитями связана с разлитой в природе Мировой Душой. Очевидной данью этой концепции является у Тургенева прием психологического параллелизма, когда определенное состояние, в котором оказывается «душа» природы, прямо соотносится с аналогичным по внутреннему наполнению состоянием души героя. Психологический параллелизм лежит в основе композиции таких очерков, как «Бирюк», «Свидание», отчасти «Бежин луг». Он же, можно сказать, определяет и общую композицию цикла, открывающегося человеческим очерком «Хорь и Калиныч» и завершаемого полностью посвященным природе очерком «Лес и степь» (с тем же принципом «парности» в названии).
В поэтике «Записок охотника» очевидны знаки уже начавшейся переориентации Тургенева с гоголевской «отрицательной» стилистики на «положительную» пушкинскую. Следование Гоголю в кругах сторонников натуральной школы считалось нормой: писатель, изображающий грубую правду жизни, должен хотя бы в какой‑то мере быть обличителем. Обличительная тенденция чувствуется в откровенно «социальных» очерках тургеневского цикла, где четко распределены социальные роли персонажей и «отрицательным» даются, как правило, значимые фамилии (Зверков, Стегунов и др.). Но основная тургеневская установка все‑таки не обличительная. Ему ближе пушкинское стремление к примирению противоречий при сохранении яркой индивидуальности изображаемых характеров. Не только «научная» объективность, не только либеральная идея уважения прав личности, но и пушкинская «эстетика примирения» заставляют Тургенева с равной заинтересованностью и доброжелательным вниманием изображать жизнь крестьян и дворян, «западников» и «восточников», людей и природы.
«Любовные» повести Тургенева
В 1850‑е годы формируется тип «любовной» тургеневской повести – одного из важнейших жанров в творчестве писателя. К характернейшим образцам этого жанра относятся: «Затишье» (1854), «Яков Пасынков» (1855), «Переписка» (1856), «Фауст» (1856), «Ася» (1859), «Первая любовь» (1860), «Вешние воды» (1872). При известном различии в сюжетах все повести обладают заметной структурной, смысловой и стилевой общностью. Их герои принадлежат, как правило, к дворянской интеллигенции; в большинстве своем это люди, получившие хорошее воспитание и не чуждые культурных интересов. Композиционным и одновременно духовным центром каждой из повестей (за исключением, пожалуй, только «Якова Пасынкова») является образ молодой женщины, по традиции называемой «тургеневской девушкой», чье сердце ждет идеального избранника и готово раскрыться для большой и сильной любви. «Сдержанная страстность» – так можно было бы определить основную характерологическую особенность этого женского типа, восходящего во многом к любимому Тургеневым образу Татьяны Лариной из пушкинского «Евгения Онегина». Другой литературный источник образа «тургеневской девушки» – независимые, уверенные в себе, пренебрегающие консервативной общественной моралью героини романов Жорж Санд, которую увлекавшийся ею в 1840‑е годы Тургенев называл «одной из наших святых».
Как и Жорж Санд, Тургенев, сочувствующий новоевропейским идеалам раскрепощения личности, в сфере любви понимает это раскрепощение как дарование человеческому и, в частности, женскому сердцу права любить страстно, т. е. не считая чувственное влечение грехом, и свободно, т. е. выбирая предмет любовного влечения по собственной, а не по чужой воле. Согласно новым представлениям, семья, церковь и государство не могут управлять свободой человеческого чувства, оно не должно быть подавляемо ими; если же оно все же нуждается в какой‑то регуляции и гармонизации, то лучшее средство для этого – воспитание по‑новому гуманного, просвещенного ума, обладая которым человек сам, без посредников, сможет разобраться в своих чувствах и благодаря которому научится уважать и воплощать на практике «принцип равенства в любви», когда ни один из любящих не возвышается над другим и не утверждает себя за счет другого. Это независимое, свободолюбивое «жоржсандовское» начало наиболее заметно в героине «Аси», которая, в подражание пушкинской Татьяне, первой признавшейся в любви своему кумиру, сама назначает свидание господину Н.Н., и в героине «Первой любви» княжне Зинаиде, чей образ жизни – а она постоянно окружена поклонниками, ежевечерне посещающими ее дачу, – вызывает у рассказчика, юного Владимира, смешанное чувство недоумения и восхищения: «Как не боялась она погубить свою будущность? Да, думал я, вот это любовь, это страсть, это преданность». Часто в тургеневской «любовной» повести возникает структурная пара: сильный женский персонаж – слабый мужской, слабость которого, исходя из новой концепции любви, правильно было бы объяснить его излишней рефлексивностью и внутренней разорванностью – плодом традиционного воспитания, где «сдержанность» преобладала над «страстностью» и неизменно подавляла ее. Такое объяснение более всего подходит господину Н.Н. из «Аси», который в решительный момент свидания неожиданно пугается могучей силы любовного чувства и оказывается не в состоянии отдаться ему. Не способен ответить на обращенное к нему чувство и унылый «прожигатель жизни» Веретьев в «Затишье», предмет слепого поклонения безнадежно влюбленной в него Маши, натуры цельной и глубокой. Слабость Санина в «Вешних водах» проявляется в том, что он предает чистую любовь итальянки Джемы, забывая о ней после встречи с другой женщиной – циничной, плотской, жестокой Марьей Николаевной Полозовой.
В повести «Фауст» такой же раскрепощающей и по‑новому возвышающей личность силой, как любовь, представляется и искусство, также понятое – в соответствии с гуманистическими идеалами Нового Времени, полностью разделяемыми западником Тургеневым, – как начало, одухотворяющее соприкоснувшегося с ним человека прежде всего своей чувственной, земной красотой. Герой‑рассказчик повести, Павел Александрович, интеллигентный молодой человек, противник старого «аскетического» воспитания на средневековый манер, пытается приохотить героиню повести Веру, именно так воспитанную своей матерью, к великим ценностям нового искусства, утонченно и красочно описывающего все прихотливые изгибы живого любовного чувства, малейших проявлений которого, верная материнским заветам, она поначалу боялась как огня. Но после совместного с Павлом Александровичем чтения «Фауста», «Евгения Онегина» в Вере пробуждается огонь страсти, ощущаемый ею как наслаждение, с которым ничто не может сравниться…
Такова одна – гуманистическая и по эмоциональному наполнению светлая сторона тургеневской «любовной» повести. Но есть и другая – темная, тайно дискредитирующая идеалы нового гуманизма, если не прямо враждебная им. Ее появление в тургеневском творчестве уместно связать с переломным для всего русского западничества 1848 г. – годом третьей французской революции и начала «мрачного семилетия» в России. 1848 г. ознаменовал кризис русского западничества с его высокими гуманистическими идеалами: верой в исторический прогресс и надеждой на рождение новой сильной личности, свободной от пут догматической Традиции. Причиной кризиса было не само по себе ужесточение ненавистного не одним западникам авторитарного николаевского режима, а глубочайшее разочарование русской либеральной интеллигенции в итогах французской революции, первоначальные победы которой странным образом способствовали ее последующему полному поражению. В 1848 г. Франция, по общему мнению всех либералов, – передовая страна прогресса, становится республикой. Через несколько месяцев оказавшиеся у власти «республиканцы» топят в крови восстание рабочих, а еще через некоторое время выбранный народом президент Луи Бонапарт устраивает государственный переворот и возвращает Франции статус империи, а себя объявляет ее императором Наполеоном III. Благородная идея прогресса на глазах терпела крах и трещала по швам. Именно в это время в Европе начинается увлечение А. Шопенгауэром, классиком философского пессимизма, не верившим в поступательный ход развития человечества, поскольку, как утверждалось в его учении, в основе всего лежит слепая иррациональная сила, названная им Мировой Волей, которая сама же разрушает все, что созидает, а люди с их проектами и надеждами не более чем ее послушные орудия, пребывающие в постоянном самообмане: желая очередной общественной перестройкой избавить общество от зла, они только увеличивают его количество. Зло, по Шопенгауэру, неустранимо; оно есть сама сущность жизни. Человек не хочет замечать его и всегда надеется на лучшее, между тем как в действительности человеческое существование есть череда сменяющих друг друга несчастий, горестей и страданий, ведущих, в конечном итоге, к смерти.
Давно замечено, в какой большой мере повести Тургенева пропитаны если не идеями Шопенгауэра (хотя известно, что Тургенев не только читал, но и высоко ценил его сочинения), то самой пессимистической атмосферой его философии. Все рассказываемые им любовные истории обязательно имеют трагическую или, по крайней мере, болезненно‑драматическую развязку. Идея нового свободного чувства все время наталкивается в них на некое препятствие, суть которого невозможно объяснить наследием традиционной этики. Шопенгауэр же по‑своему убедительно объясняет его, исходя из факта изначального несовершенства человеческой природы. По его логике, Мировая Воля заставляет каждого человека центрироваться на своем «я» и удовлетворять его ненасытные желания; одно из самых сильных желаний в человеке – диктуемое половым инстинктом стремление к чувственному удовлетворению, которое, в силу взаимодействия Любви и Смерти – двух главных ликов Мировой Воли, – есть бессознательное стремление к саморазрушению, поэтому любовь, основанная на чувственном влечении, или любовь‑страсть, всегда ведет к гибели, всегда трагична. Шопенгауэр также подчеркивал, что урегулировать чувственную стихию, опираясь на разум, каким бы просвещенным он ни был, невозможно: всесильная иррациональная Воля как в истории, так и в частной жизни неизбежно разбивает все рациональные постройки. По той же причине – как иллюзию наивных рационалистов – отрицал Шопенгауэр и идею равенства в любви: два чувственных «я», одинаковые орудия Мировой Воли, не могут образовать гармонического союза, они, по природе, соперники, и поэтому каждый из них стремится властвовать над другим.
Уже в «Дневнике лишнего человека» Чулкатурин задается странным вопросом: «Разве любовь естественное чувство? Любовь – болезнь». Имеется в виду, что любовь не преображает, а, подобно болезни, уродует человека, и что точно так же, как со смертельной болезнью, с нею, когда она приходит, невозможно справиться. Но если в «Дневнике…» подобные мысли преподносились, скорее, как свидетельство мизантропического эгоцентризма героя, то в повести «Переписка» они определяют саму сюжетную канву произведения. Состоящие в переписке тонкие, образованные, культурные молодые люди – «философ» и «философка», чувствуя родство своих душ, стремятся соединить и свои судьбы, но это оказывается невозможным, потому что «философ» вдруг совершенно неожиданно влюбляется в не очень красивую, совсем неумную танцовщицу и начинает везде следовать за ней, не в силах противостоять захватившей его страсти. Чувствуя себя полностью раздавленным ею, в своем последнем письме он не только называет любовь болезнью, но и формулирует еще один шопенгауэровский тезис: «… в любви нет равенства, нет свободного соединения душ; в любви – один обязательно раб, другой властелин». Той же иррациональной природы страсть Санина в «Вешних водах» к Марье Николаевне, с такой звериной энергией подчинившей себе его слабую душу, что напрашивается предположение: не саму ли Мировую Волю хотел в ее лице символически изобразить писатель? Подобным – разрушительным – образом действует иррациональная сила страсти и на доверившиеся ей женские души. Сожженная любовью к своему избраннику, еще совсем молодой умирает в «Первой любви» княжна Зинаида, которая при всей своей «жоржсандовской» независимости в самой себе несет разъедающий ее изнутри комплекс «раба‑властелина»: с суетящимися вокруг нее поклонниками она чувствует себя полновластной царицей (однажды, как бы играя, даже втыкает булавку в руку одному из них), тогда как по отношению к избраннику сердца она – безвольная раба, полностью растворенная в любви к нему (когда он в гневе ударяет ее хлыстом по руке, она с благодарностью целует эту рану). Умирает Вера в «Фаусте», не выдержав пожара свободной страсти, начавшего разгораться в ее душе. Безысходная любовь приводит к смерти и Машу в «Затишье». Любопытно, что в последних двух повестях не только любовь, но и искусство, по причине их одинаково чувственной природы, оказывается силой, несущей смерть и разрушение. По Тургеневу, у искусства, как и у любви, есть свой темный и трагический лик. Может быть, даже больше, чем Вера, соблазненная сладким ядом любовной поэзии, прочувствовала трагическую природу искусства Маша в «Затишье»: любовь к Веретьеву открыла ей, никогда не любившей стихов, глаза на красоту пушкинского «Анчара», который она, однако, прочитывает как стихотворение о смертоносном жале любви и перед тем, как броситься в пруд, повторяет заученные наизусть строчки: «И умер бедный раб у ног Непобедимого владыки…»
Разрушительной силе любви в тургеневских повестях обычно противостоит идея долга, понятая как бескомпромиссное отречение от любых чувственных соблазнов и также имеющая аналогии в философии Шопенгауэра. Ссылаясь на опыт святых и мистиков всех религий, Шопенгауэр учил, что одолеть Мировую Волю можно, только отказавшись от фиксации на своем «я» или, по‑другому, от желаний; применительно к любви это означает полный отказ от чувственной жизни или аскезу; только такая «смерть» до смерти может по‑настоящему одухотворить человека, даровать ему внутренний покой и удивительную, непонятную обычным, слепо привязанным к жизни людям способность легко и радостно встречать реальную смерть. Повесть «Фауст» заканчивается горестными признаниями Павла Александровича, невольного соблазнителя Веры, в которых он фактически переходит на позицию своей «идейной оппонентки» – матери Веры, фанатичной защитницы аскетически понятого долга. Его мысль о том, что жизнь «не наслаждение», а «тяжелый труд», и что вынести ее можно, лишь наложив на себя «железные цепи долга», перекликается и с эпиграфом к повести, взятым из гетевского «Фауста»: «Отказывай себе, смиряй свои желанья». Прямой иллюстрацией этой же мысли – аскетический долг выше чувственного счастья – является повесть «Яков Пасынков». Сам Яков Пасынков – своего рода «реалистический» двойник сентиментальных героев Жуковского; как и они, он верит в идеал чистой любви, как и они – ничего не хочет для себя: он – воплощенное самоотречение. Свою любовь к нелюбящей его Софье он без колебаний приносит в жертву тому, кого избрало сердце его возлюбленной. В течение всей своей жизни он молчит об этой согревающей его душу любви и признается в ней приятелю только перед смертью. Так же ведет себя и сестра Софьи Варя, безответно и безнадежно влюбленная в Якова, но умеющая молчать о своей любви. В финале повести Софья произносит что‑то вроде «похвального слова» «чувству долга», которое, как якорь, удерживает нравственного человека от эксцессов гибельной чувственности и себялюбия. Обе героини повести прозрачно соотнесены с пушкинской Татьяной, но уже не с той «романтической» Татьяной, в которой проснувшееся страстное чувство готово было по – «жоржсандовски» не считаться ни с какими препятствиями, а с Татьяной, научившейся «властвовать собою» и сознательно предпочитающей основанный на жертве и отречении нравственный долг проблематическому личному счастью. С этой точки зрения по‑иному следовало бы истолковать и поведение господина Н.Н. в «Асе». Его слова «я должен бы оттолкнуть ее прочь» свидетельствуют не только о слабости и страхе, но и о чисто человеческой порядочности героя повести: как человек, связанный нравственными обязательствами перед братом Аси, он в сложившейся ситуации едва ли мог поступить иначе.
Однако искреннее восхищение людьми долга никогда не переходит у писателя в его апологию: идеал нового человека с раскрепощенным сердцем, несмотря на его трагическую оборотную сторону, больше говорит его душе. Герои, выбравшие мирскую аскезу как единственное спасение от бед жизни, рисуются им как существа, насильно наложившие на себя цепи, от которых они сами страдают, потому что сердца их продолжают втайне тянуться к идеалу любви‑наслаждения. Их позицию правильно было бы назвать вынужденным или подневольным стоицизмом. Даже смиренно и светло умирающий Яков Пасынков с тоской и болью вспоминает в предсмертном бреду, что сердце его – разбито. Отсюда пронизывающая все «любовные» повести грустная интонация, интонация жалобы и сокрушения о несбывшихся мечтах и утраченных надеждах, позволяющая жанрово определить тургеневскую повесть как «повесть‑элегию». По общему эмоциональному колориту наиболее близка она русской «унылой» элегии. Очевидна их близость и в структурном отношении. Главная оппозиция «унылой» элегии временная: прекрасное прошлое – драматическое настоящее. Это элегическое противопоставление у Тургенева реализовано в композиции: как взгляд из безрадостного настоящего (герой стареет, подвержен недугам, близок к смерти) в чарующе прекрасное прошлое (когда он был молод и счастлив) построены «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды». Характерен также эпиграф к «Вешним водам»: «Веселые годы, Счастливые дни – Как вешние воды, Промчались они!»
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 684;