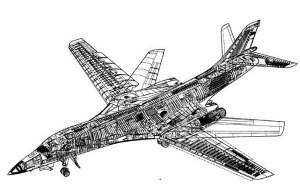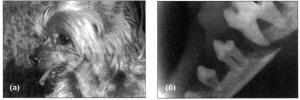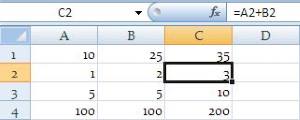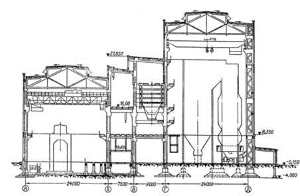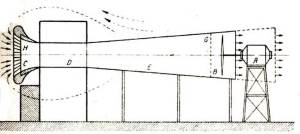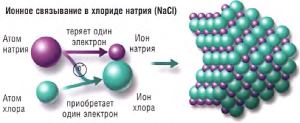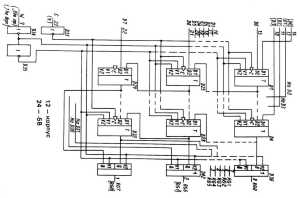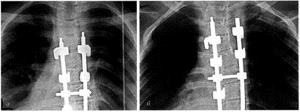Изменения эстетической и художественной культуры
В ХХ столетии эстетическая и художественная культура и все, что с ними связано, изменялись кардинально. В Европе XIX в. художники были явно озабочены тем, что происходило в обществе, хотя к концу века часть их пришла к мистицизму и эстетизму. Общество XIX в. порой относилось к художникам, артистам как к людям второго сорта, порой к некоторым из них как к пророкам. Искусство в целом было уважаемым, так как считалось нужным и полезным или для пробуждения добрых чувств (о чем с гордостью писал А. Пушкин: «И чувства добрые я лирой пробуждал»), или хотя бы для украшения жизни, для порождения в ней красоты.
В ХХ в. возникла проблема не только «смерти» Бога, но и смерти искусства. О. Шпенглер в 1918 г. в книге «Закат Европы» отмечал, что западноевропейское искусство умирает от старческой слабости.
В 1950–е гг. французский социолог искусства Мишель Дюфренн констатировал, что искусство в его традиционном понимании доиндустриального общества уже умерло. В 1972 г. на VII международном эстетическом конгрессе в Румынии действовала секция, обсуждавшая проблемы смерти искусства. Очень много и по–разному писали и говорили о кризисе художественной культуры. И хотя кризисные явления наблюдались в развитии всех художественных эпох, направлений, стилей, то, что происходило в веке ХХ, было совершенно необычным, хотя начиналось все с вроде бы характерной для любого переходного периода борьбы с академизмом, с окостеневающими традициями. Однако борьба эта пошла столь интенсивно, приобрела такие формы и имела такие последствия, что действительно стало возможным говорить о смерти искусства, конце художественности, да и культуры вообще.
Дело в том, что на этот раз бунтовали не просто против традиций и застоя в искусстве, а против всей сложившейся буржуазной цивилизации и культуры в целом. Слово «художники» употребляется в широком смысле, обозначая творцов эстетической и художественной жизни: живописцев, скульпторов, архитекторов, писателей, композиторов и т. д. Они с начала века выражали неприятие торгашеских отношений, ведущих к грязным войнам, тенденций к стандартизации жизни на основе рассудочности, рациональности, пошлой разумности, объективизма и утилитаризма. Они выступали против лицемерия, фальшивой красивости, прикрывающей истинное безобразие действительности, против буржуазного прогресса и культуры, порожденной им и благословляющей этот прогресс, против всякого натурализма и реализма, но в то же время и против эстетического искусства, якобы возвышающегося над жизнью.
Поэтому в своих художественных поисках они ориентировались на безрассудство в противовес рассудочности, на иррациональность в пику рациональности, на субъективизм и непрактичность вместо объективизма и утилитаризма. Они акцентировали свое безразличие к красоте как гармоничности, пропорциональности, соразмерности и т. д. В связи с этим в художественном творчестве активизировались попытки выявления бессознательного, теоретически обоснованные фрейдизмом. Художники искали новые, не столько изобразительные, сколько выразительные, средства для более или менее непосредственного выявления скрытого за пеленой видимости, тайного, более значительного (как им казалось), чем видимое. В поисках необычных выразительных средств они обратились к диссонансам, дисгармонии красок, звуков, слов. Воздействуя таким образом на публику, они пытались «взорвать» обычное в ее восприятии и заставить ее не просто смотреть, слушать и читать, а чувственно мыслить. Их волновали именно новые способы выражения художественной мысли. Пикассо прямо заявлял, что он пишет объекты не такими, как их видит, а такими, как мыслит.
В этом проявлялось стремление сделать ту же живопись «размышляющей», хотя и не стандартно. Но при этом она все–таки рационализовывалась едва ли не больше, чем традиционная. Абстракционисты, футуристы, особенно сюрреалисты (а среди них Сальвадор Дали!) по–разному пытались избежать опасности новой рационализации, доходя до идей «чистого психологического автоматизма», когда художник творит спонтанно, «как во сне», «как в бреду». Но именно «как», а не в бреду. Такие попытки приводили к частным интересным художественным решениям, но не снимали проблемы «слишком умного» искусства.
При этом, несмотря на очень разные социальные и художественные установки, творцов нового искусства объединял пафос отрицания традиций, содержавшихся в эпигонско–классической живописи, литературе и т. д. Они были едины в признании необходимости поиска новых художественных форм и приемов. Многих их них объединяли антибуржуазные настроения, антииндустриализм, пафос борьбы с «механизированным злом», очень ярко выраженный Пикассо в его «Войне в Корее», «Гернике», «Девушке на морском берегу». Объединяла всех художников–авангардистов и их озабоченность социальными проблемами, стремление не столько отражать реальность, сколько формировать новый мир или по меньшей мере содействовать его кардинальному преобразованию. Поэтому авангардистов и модернистов ХХ в. иногда совершенно напрасно критиковали за их якобы уход от действительности, от социальных проблем. Все модернистские направления и течения: фовизм, экспрессионизм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм, поп–арт, оп–арт и т. д., самые разнообразные постмодернистские группы до настоящего времени социально активны, заражены не просто формотворческим бунтарством. Представители крайнего абстракционизма в живописи П. Мондриан и К. Малевич (творец знаменитого «Черного квадрата»), достигшие, казалось бы, предела в отстранении от изображения реальности, пытались таким образом с помощью искусства реализовать каждый свою социальную утопию, помочь разрушить старый мир и создать новый, лучший, в котором, правда, уже не было места искусству в его прежнем, классическом понимании, но который должен был быть весь пронизан новыми художественными началами.
До Второй мировой войны бунтарями были художники–изгои, полунищие, полуголодные, произведений которых не понимала публика. Их не покупали ни она, ни даже знатоки (за исключением самых прозорливых). После Второй мировой войны ситуация резко изменилась. Новое искусство вошло в моду, было разрекламировано искусствоведами. И даже то, что не признавалось художественным с точки зрения самих творцов, попадая в музеи и на выставки, эпатируя публику, вызывая ожесточенные споры критиков, стало считаться явлениями новаторского искусства, новой художественной культуры. Сработало то, что Арватов назвал «рамкой», Беньямин – «аурой». Помещенный в музей предмет может обретать качество как бы художественности, даже несмотря на ее полное отсутствие. Изобретение ready–made, коллажей, создание в поп–арте «произведений» из хлама, в постмодернизме даже «из ничего», сама реализация возможности «художественного творчества» человеком без всякой специальной подготовки, без холстов и кистей в живописи, без музыкальных инструментов в «шумовой музыке» – все это породило самые разнообразные спекуляции, подделки под новое в искусстве. Начал теряться смысл слов «искусство», «художественное творчество», «художественная культура». Зато новизна околокультурных, околохудожественных явлений стала приносить солидные барыши. Искусство в качестве прежде всего предмета любопытства и развлечения, как считал К. Ясперс, приближалось скорее к спорту, нежели к художественной деятельности.[387] Превалировал при этом игровой элемент, а не серьезно–содержательный. Ясперс отмечал общее движение к состоянию, когда «в искусстве исчезнет не только дисциплинирующее, но и содержательное ремесленное образование…».[388] Реклама сделала, казалось бы, невозможное: придала престижность, ценность многому из того, что не было действительным художественным достижением и даже не задумывалось как произведение искусства, но хорошо продавалось и покупалось в этом качестве. Произошло любопытное: антибуржуазный протест использовался самой буржуазной действительностью.
Возникли большие проблемы с критериями художественности. И это касалось не только изобразительных искусств. В музыке, которая называется серьезной, авангардисты «сломали» традиционный мелодизм и гармонию звуков. Шумовая атональная музыка, додекафония стали и протестом против устаревших музыкальных форм, и музыкой «размышляющей», создаваемой вовсе не для наслаждения, не для услаждения слуха.
Наряду с музыкой, считавшейся «классической», серьезной, в жизнь ворвалась иная музыкальная стихия, сначала вроде бы развлекательная. Так называемая «легкая» музыка, в частности, танцевальная, была всегда, и в XIX в., и в начале ХХ. Но уже в начале ХХ в. в нее вошли необычные для европейской традиции мелодии и ритмы (африканские, латиноамериканские). Даже джаз все еще колеблется между откровенной легкостью, танцевальностью и тяготением к созданию серьезных, на манер классических, но джазовых музыкальных произведений (например, «Симфония в стиле блюз» Дж. Гершвина).
Принципиально новой музыкой стал рок, определивший место музыки в цивилизации и культуре. Рок стал чуть ли не новой религией прежде всего молодежи, и уж во всяком случае, – новым «языком» для выражения чувств, настроений, пронизанных опять–таки бунтом против всего устоявшегося, консервативного. С появлением рока Бах и Бетховен должны были «посторониться». Рок–стихия заняла ведущее положение в массовом интересе к музыке и стала новым явлением в художественной культуре, да и вообще в культуре. Поначалу рок казался просто еще одним увлечением тинейджеров (подростков). Но постепенно и рок–музыкантов потянуло к серьезности, масштабности, к социально–заряженной проблематике. Они стали перерабатывать шедевры классической музыки, как бы соревнуясь с традиционной оперой, создали рок–оперу (например, «Иисус Христос – суперзвезда»). Знаменитые рок–ансамбли (такие как «Битлз») волновали миллионы слушателей самого разного возраста, пробуждая в них самые разные чувства от безыскусных радости и печали до возмущения и гнева, потому что пели обо всем: о любви, об одиночестве, о том, что творится в обществе.
Для творчества рок–музыкантов характерны динамизм, ритмичность, иногда прекрасный мелодизм, возможность решения самых разных художественных задач и в то же время – дешевая популярность однодневок–шлягеров, легкость тиражирования. Действие рок–музыки было чем–то сродни наркотическому опьянению. Масса людей, прежде всего молодых, боготворила рок–звезд как кумиров, ждала от них все более острых, кричащих, пронизывающих тела и души мелодий, ритмов, воплей, звуковых содроганий.
Бунтарский, особенно поначалу, рок очень быстро стал коммерчески–выгодным, повсеместно распространенным, динамично–меняющимся стилистически (диско, металлический рок и т. д.). Динамизм вообще стал неотъемлемой чертой всех видов искусства ХХ в. Это коснулось и нового балета, и новой литературы с ее «пулеметной прозой», и театра, который соревновался с кино и телевидением. Существенными стали и попытки во всех видах художественного творчества активизировать позицию публики, вовлекая ее в музыкальное, театральное действо. В современном театре зритель то становится участником спектакля (хеппенинга), то спектакль разворачивается вокруг него.
На изменение характера художественной культуры ХХ в. повлияли, конечно, технические новинки, часть из которых изменяла средства художественного творчества и восприятия, часть способствовала возникновению новых видов художественной и близкой к ней деятельности. Речь идет о фотографии, кино, телевидении, звукозаписи, видеозаписи, компьютерной технике, рекламе, видеоклипах и т. д.
Интересно, что все суперсовременные средства и формы, виды «искусства», активно используют то, что, по выражению А. Гениса, располагалось раньше в «подвале» культуры: суеверия, ритуалы, слухи, легенды, всяческую архаику. Все это воплощается в кинобоевиках, комиксах, телесериалах, разнообразных «ужастиках» с вампирами, оборотнями, кумирами–супергероями. Причем всюду в зрелищных и звуковых искусствах на первое место по значимости среди творцов начал выходить режиссер со звуко–и видеооператорами. Именно режиссер, как шаман, «дирижировал» реакциями публики в кино, на телевидении, в театре, в разнообразных шоу. В ХХ и ХХ1 вв. при этом все время есть стремление вызвать не только реакцию, но и возможное сотворчество толпы: шумящей, притопывающей, подпевающей. «Массовое искусство, как и первобытный синкретический ритуал, строится вокруг зрителя, а не художника».[389] Искусство действительно преобразуется как бы в некий ритуал, соединяющий разные виды художественного творчества и с помощью технических устройств преобразующий обыденную жизнь в грезу, будни – в праздник. В ХХ столетии все время рос удельный вес внесловесной художественной культуры. Это касается бурного развития музыки, танцев, шоу, рекламы, дизайна. Доступность внесловесных форм культуры представителям разноязычных культур создала некоторые новые возможности для культурного объединения планеты.
Но вместе с тем происходило и то, что описывал Т. Зэлдин, – усиление неоднородности культурной жизни разных слоев и групп общества, замыкание отдельных социальных групп в культурной изоляции, что предопределило эффект мозаичности культуры.[390] Так, во всяком случае, во Франции ни живопись, ни литература уже не являлись предметом всеобщего интереса. По некоторым подсчетам, на широко понимаемую культуру тратилось в среднем 2,5 % доходов французской семьи, в то время как на развлечения – 20 %. Зэлдин отметил, что «классическую культуру по–прежнему ценят только те, кто претендует на респектабельность».[391] А что же ценили остальные и почему? Все явно оригинальное, ибо культура, по общему мнению, должна была противостоять оболванивающему воздействию средств массовой информации, стимулировать проявления оригинальности, нестандартности личностей. Поэтому даже французское Министерство культуры заметно колебалось между признанием необходимости спасать и сохранять традиционную культуру и стремлением к поощрению (и финансированию) всяческого обновления.
Конечно, старая традиционная художественная культура, традиционное искусство не умерли вовсе, не перестали действовать. Традиции великих романов XIX в. были продолжены, например, русскими прозаиками Шолоховым, Булгаковым, Набоковым, хотя на Западе развился совершенно иной тип романа, воплотившийся в «Уллисе» Джойса, а позже в еще более современных образцах «эпической» прозы. Впрочем, и на Западе, помимо Джойса, был Хемингуэй и другие романисты, не повторявшие, но развивавшие (так же как Булгаков и Набоков) традиции классической прозы.
Классические музыкальные формы по–новому зазвучали в творчестве Прокофьева и Шостаковича, Карла Орффа и многих других композиторов. В изобразительном искусстве и киноискусстве встречались талантливые вариации неореализма и даже неоклассицизма. Ставились классические оперы и балеты, в которых выступали потрясающие исполнители: Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Федор Шаляпин, Марио Ланца, Лучано Паваротти, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Михаил Барышников и т. д. И тем не менее на всем традиционном, особенно к концу ХХ века, был уже явный отпечаток «музейности»: то, что ценно, необходимо сохранять, как сохраняют полотна старых мастеров или античную скульптуру, «Комеди Франсез» или шекспировский «Глобус». Но ни писать, ни живописать, ни создавать музыкальные и театральные шедевры так, как это делалось в XIX, даивХХв., уже невозможно. Все, в чем не хватает динамизма и остроты (даже кино 50–70–х гг. ХХ в.), перестало смотреться, читаться, слушаться с живым интересом. Идеал красоты вроде бы все еще остается там, в прошлом. Но художественность уже не такова; эстетические и художественные вкусы претерпели существенные изменения. Суть, конечно, та же, но формы воплощения иные и восприятие требует этих новых форм. В красоте, по–новому воплощаемой, присутствует обострение некоторых черт реальности, придающее динамику и свежесть образам (как в скульптурах Джакометти). В красоте совмещаются нечто от той былой гармонии и добавочные штрихи и символы из других культур. Черты архаических, средневековых, азиатских и африканских культур переходят в европейскую, европейских – в азиатские и африканские.
ХХ век породил совершенно необычную (в чем–то, возможно, напоминающую древнюю) поэтически–песенную культуру. Необычную по массовости ее распространения и силе воздействия, выразившуюся в творчестве целой плеяды французских шансонье (начиная с Э. Пиаф), рок–музыкантов и певцов США и Европы, ансамблей, подобных «Битлз» и «Роллинг Стоунз». В России, помимо этого, активизировались поэты–барды, среди которых наиболее значимыми стали Б. Окуджава и В. Высоцкий. Песни певцов, о которых идет речь, не только слушались на концертах или в записях, но и пелись повсеместно, становясь чуть ли не тем, чем были когда–то лучшие фольклорные творения.
Изменились в ХХ в. и танцы. В народных танцах до XIX и кое–где даже до ХХ в. включительно, и в танцах, которые танцевала избранная, аристократическая часть общества, были закреплены правила, фигуры, которые разучивались, так что танцевали по правилам, с некоторыми индивидуальными или местными вариациями.
Латиноамериканские танго и фокстрот, румба, бывшие популярными в Европе и США до середины ХХ столетия, в общем, таковы же. Чарльстон тоже имел закрепленную форму, блюз и твист еще сохраняли (даже в бытовых вариантах) намеки на нее и оставались парными. Рок–н–ролл уже требовал скорее фантазии, чем подчинения правилам. А дальше произошло полное освобождение танца от всех условностей. Танец современный – это скорее коллективное действо, когда под общую для всех музыку каждый танцует как хочет, один или с партнершей (партнером), выявляя в движении то, что ему хочется. Причем если за танцем как исполнением фигур раньше можно было наблюдать со стороны, то теперь наблюдать не за чем, надо уходить или самому приплясывать. Танцуют все, кто как умеет и может. Главное – свобода движений под музыку, обычно ритмичную и динамичную.
Дата добавления: 2021-06-28; просмотров: 441;