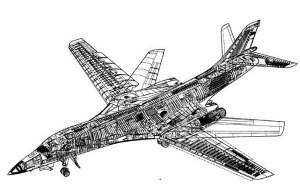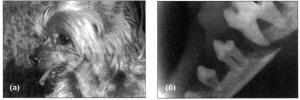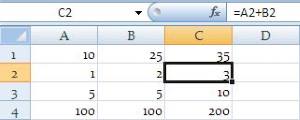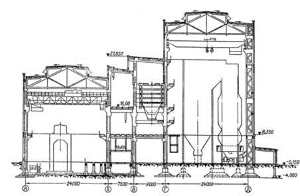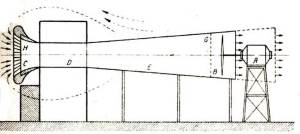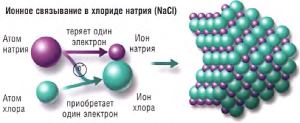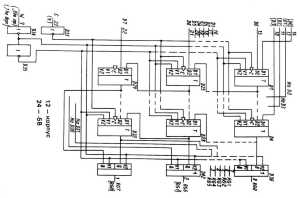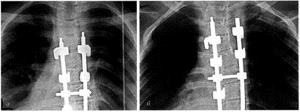СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
Вопрос о предмете изучения — это не только первый и сегодня, может быть, самый трудный из больших теоретических вопросов психологии, но вместе с тем вопрос неотложной практической важности. Дело в том, что представления о предмете психологии, которые предлагались и принимались до сих пор, оказались ошибочными. А одного указания на психические процессы — мышления, памяти, воображения, чувства — совершенно недостаточно для построения психологической науки. Эти процессы изучаются не одной психологией, а многими науками, и в самих этих процессах области разных наук не разграничены. Нужен четкий критерий, чтобы ясно различать, что в них может и должен изучать психолог, а что подлежит ведению других наук, какие задачи призван решать психолог, а какие лишь кажутся психологическими, но на самом деле ими не являются, и психолог не может и не должен их решать.
Когда нет критерия того, что относится к психологии и только к ней, легко происходит подмена предмета психологии предметом других наук: физиологии, теории познания, логики, этики и т. д. Отсюда проистекает то фактическая ликвидация психологии, оставляющая нас беспомощными перед стихией собственной душевной жизни, то, напротив, неправомерная психологизация явлений, относящихся к другим областям знания (психологизация общественных явлений истории, теории познания, логики, языкознания, педагогики и т. д.). В результате такого смешения объяснение психологических явлений ищут вне психологии, а объяснение непсихологических явлений — в психологии. В обоих случаях этим явлениям даются ложные объяснения, а усилия понять их и овладеть ими или устранить нежелательные явления направляются по неверному пути.
Вопрос о предмете изучения отдельной науки — большой теоретический вопрос, однако не всегда и не на всяком уровне развития каждой науки он одинаково практически важен. И нас в психологии не должны успокаивать соображения, что многие точные науки — математика, физика, химия, биология и другие — будто бы «прекрасно обходятся» без определения своего предмета; что современная психология стала экспериментальной наукой, получила широкое распространение и применение в разных областях практической жизни, тоже не задерживаясь на определении своего предмета; что выяснение предмета науки больше дело философии, а не самой науки, и т. п. В математике, физике, химии и многих других науках система прочно установленных знаний так обширна и настолько четко разработана, что, овладевая ими, новичок интуитивно уясняет себе предмет этих наук и усваивает однозначный подход к их очередным задачам. В науках, достигших такого уровня развития, вопрос об их предмете — это действительно скорее философский вопрос, важный в большей мере для методологии науки и мировоззрения, чем для каждого очередного исследования.
Но в современной психологии — другое положение. Психология стала экспериментальной наукой, получила разнообразное, экстенсивное применение на практике, и это, действительно, большое завоевание. Но подлинно психологический эксперимент развивается медленно и в наиболее важных разделах и направлениях: например, в учении о потребностях, чувствах, воле, в психологии убеждений и личности он делает лишь первые шаги; да и в других областях успехи экспериментальных исследований по сути дела еще скромны. Если учесть размах и распространение психологических исследований, те огромные усилия, которые в этой области повсеместно прилагаются, учесть общее время применения эксперимента в психологии, которое теперь исчисляется более чем столетием, и сопоставить все это с достигнутыми результатами, то последние окажутся несоразмерно малыми и, что, пожалуй, еще более важно и странно, поразительно разрозненными. А сколько было иллюзий, больших надежд и глубоких разочарований в возможностях различных экспериментальных — да, не умозрительных, а экспериментальных! — направлений в психологии! Относительно небольшое число и как бы случайный характер важнейших результатов, столь частые взлеты и падения теоретических конструкций — все это в конце концов и заставляет поставить вопрос: а не направлены ли усилия многих и несомненно выдающихся исследователей по ложному пути? Не ложной ли является и столь распространенная теперь за рубежом уверенность, что строго эмпирическое исследование, оснащенное совершенной аппаратурой и математическими методами обработки материалов, может успешно развиваться без теоретических представлений о своем предмете? Отказываясь от более или менее частных гипотез, подобные «эмпирические» исследования фактически сохраняют ту же общую ложную ориентацию. Ведь речь идет не о том, чтобы объяснить предмет психологии, а о том, чтобы выделить его и сделать его предметом подлинно научного изучения.
Что касается широкого практического применения психологии, то и здесь лучше воздержаться от прямолинейных заключений о его научной обоснованности и действительном научном значении. Немалая доля практической работы, которая за рубежом выдается за психологическую, на самом деле является идеологической; несомненно, она полезна ее заказчикам, но к психологии, по сути дела, имеет лишь отдаленное отношение. Кроме того, в психологии, как и во всякой другой области, практика в начальных и довольно широких границах может обходиться так называемым «жизненным опытом» без помощи науки в собственном смысле слова; в качестве практических психологов работают (и небезуспешно!) врачи, социологи, инженеры, физиологи, педагоги и многие другие. Вопрос заключается в том, могут ли специалисты-психологи сделать — не делать, а сделать, — что-нибудь большее, чем эти неспециалисты.
Есть еще один аспект вопроса о предмете психологии, который сразу обнаруживает его насущное практическое значение, и не «вообще», а для всякого психологического исследования, не только теоретического, но и практического. Это вопрос о том, что составляет механизмы психологических явлений и где эти механизмы следует искать. Понятно, что только зная эти механизмы, можно овладеть предметом в большей мере, чем позволяют опыт и практика, не вооруженные теорией; понятно и то, что всякое психологическое исследование должно быть направлено на изучение механизмов психологических явлений. Но где искать эти механизмы? Сегодня большинство психологов ищет эти механизмы в физиологии мозга. Но так как в психике отражается объективный мир, и субъект в своей деятельности руководствуется этим отражением, то многие психологи ищут механизмы психической деятельности в законах, управляющих вещами, в частности в логике как учении о самых общих отношениях между объектами. Так получается, что до сих пор психологи ищут механизмы психических явлений или в физиологии, или в логике, а в общем — вне психологии.
Однако если допустить, что такая ориентация психологических исследований правильна, то это означало бы, что психические явления не имеют собственно психологических механизмов и что психология ограничена одними «явлениями». Но тогда следует откровенно признать, что психология не составляет отдельную, самостоятельную науку, потому что никакая наука не изучает (т. е. только описывает) явления. Наука изучает, собственно, не явления, а то, что лежит за ними и производит их, что составляет «сущность» этих явлений, — их механизмы. Если мы полагаем, что физиология действительно может объяснить какие-то психические явления, то, чтобы изучить их и овладеть ими, мы должны обратиться к соответствующему разделу физиологии; если мы думаем, что логика действительно объясняет психические процессы, например, психологию мышления и его возможности на разных уровнях развития, то должны изучать генетическое становление логики в мышлении людей, формирование сначала дологических, а затем и различных логических конструкций в сознании ребенка, в развитии человеческого общества. В первом случае мы станем физиологами, во втором —логиками, пусть не просто логиками, а генетическими логиками, но в обоих случаях психическая деятельность оказывается областью одних только явлений, а не самостоятельным предметом изучения. И будет только непоследовательно говорить при этом, что мы занимаемся психологией и, вообще, что существует такая наука, психология. Если многие психологи все-таки говорят это, то лишь потому, что теоретические рассуждения — одно, а действительные убеждения — другое, утверждают то, что отрицает психологию, но сохраняют интуитивную уверенность в том, что она существует. Однако теоретические рассуждения — вещь не безразличная, и сколько психологов уходит в физиологию или в «генетическую логику»! Не для того уходят, чтобы исследовать процессы и законы физиологии или логики, а в наивной уверенности и надежде, что в них они найдут решения проблем психологии.
Вот чего стоит психологии уклончивое отношение к вопросу о ее предмете! Сегодня этот теоретический вопрос является самым насущным, самым практическим и настоятельным вопросом нашей науки. Современная психология не имеет «жесткого каркаса» знания, построенного так, что его изучение стихийно наводит на интуитивно правильное представление о ее предмете и задачах. Все предложенные до сих пор определения, описания и указания предмета психологии оказались не только недостаточными, но и просто несостоятельными (см. § 2). Вместе с тем психология оказалась на перекрестке многих и острых вопросов современного человечества, возникающих в связи с научно-технической революцией, с одной стороны, и заострением идеологических столкновений нового и старого мира — с другой. Перед лицом этих больших задач психологическая практика, не вооруженная теорией, оказывается малоэффективной. И если мы не хотим оставаться в положении слепых, бредущих в потемках, изредка натыкаясь на значительные, но разрозненные факты, то должны сначала выяснить (конечно, учитывая опыт ошибок и отдельные большие достижения), что же, собственно, составляет предмет психологического изучения.
§ 2. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
Если отбросить несущественные варианты, которые касались больше способа изложения, чем объективного содержания, то за всю историю психологии было предложено лишь три основных понимания ее предмета: душа, явления сознания, поведение.
Душа как предмет изучения. Душа признавалась всеми до начала XVIII века, до того, как сложились основные представления, а затем и первая система психологии современного типа. Представления о душе были главным образом идеалистическими. Но были и материалистические теории души. Они вели свое начало от представлений Демокрита и описывали душу как тончайшую материю, пневму, частицы которой — круглые, гладкие и чрезвычайно активные — проникали между более крупными и менее подвижными атомами и, толкая, приводили их в движение. Душа считалась причиной всех процессов в теле, включая и собственно «душевные движения».
Принципиальный недостаток этого примитивного материалистического представления о душе заключался в том, что душа признавалась особой причиной — первопричиной этих движений. А это значило: все воздействия на тело были для души лишь поводами, на которые она могла отвечать «как хотела». А почему она хотела так или иначе, это зависело только от нее самой, от ее «природы» и далее не подлежало объяснению. Таким образом, в качестве первопричины даже материально представляемая душа радикально и систематически нарушала причинные связи не только внутри тела, но и в окружающем мире. И когда в конце XVII века в естествознании окрепло строго причинное мировоззрение, спекуляции о «природе души» утратили всякое доверие ученых, а душа, как объясняющая, но сама необъяснимая сила, скрытая позади наблюдаемых явлений, была исключена из науки.
Явления сознания как предмет психологии. Место души заняли явления, которые мы фактически наблюдаем, находим «в себе», оборачиваясь на свою «внутреннюю душевную деятельность». Это наши мысли, желания, чувства, воспоминания и т. д., которые каждый знает по личному опыту и которые, как факты этого внутреннего опыта, суть нечто несомненное. Джон Локк, которого можно считать основоположником такого понимания предмета психологии, был прав, указывая на то, что, в отличие от души, явления сознания суть нечто не предполагаемое, а фактически данное, и в этом смысле такие же бесспорные факты внутреннего опыта, какими являются факты внешнего опыта, изучаемые прочими науками.
В начале XVIII века из явлений сознания была выделена их более устойчивая часть — образы внешнего предметного мира. Эти образы были разложены на их простейшие элементы — ощущения; в дальнейшем потребности и чувства были тоже представлены как отражения внутренних состояний организма, как сочетания органических ощущений удовольствия — неудовольствия. Всеобщий «механизм» ассоциаций позволял объединять разные ощущения в более сложные образы и чувства, увязывать их с физическими движениями в так называемые произвольные движения и навыки. Таким образом, вся душевная жизнь сначала в познавательной сфере, а затем и в сферах чувств и воли была представлена (конечно, лишь умозрительно) как процессы образования и смены — по законам ассоциаций — все более сложных образов и их сочетаний с действиями. Так, в середине XVIII века в знаменательном для истории психологии труде Д. Гартли (D. Hartley)[1] сложилась первая наукообразная форма психологии — английская эмпирическая ассоцианисти-ческая психология. Ее историческое значение состояло в том, что здесь психология впервые выступила как (относительно) самостоятельная область знания, охватывающая все стороны душевной жизни, которые прежде рассматривались в разных отделах философии (общее учение о душе, теория познания, этика), ораторского искусства (учение об аффектах) и медицины (учение о темпераментах). Для большой истории главная заслуга этой психологии заключалась в том, что она распространяла естественно-научное (но механистическое!) мировоззрение на «область духа» и (в наивной форме) защищала демократические идеи о формировании всех психических способностей в индивидуальном опыте.
История этой классической буржуазной психологии свидетельствует о том, что уже вскоре после завершения общей конструкции ее сторонники начали испытывать сомнения в ее научной состоятельности[2]. Сомнения затрагивали разные стороны системы, но, в конечном счете, роковым для нее оказался вопрос о возможности объективного исследования явлений сознания. Этот вопрос бурно обсуждался уже в начале XIX в., но тогда, казалось, получил благоприятное решение двумя путями. Одни принимали идею Т. Брауна о «виртуальном анализе», который проводится лишь идеально, путем сравнения и различения явлений сознания, но имеет силу действительного анализа (поскольку в «явлениях» и нет ничего сверх того, что является)[3]. Другие, как И. Ф. Гербарт, надеялись возместить отсутствие эксперимента и действительного анализа условным замером представлений и затем вычислением их взаимодействия. При этом, представления были признаны силами, величина которых определялась по результату их взаимодействия, по их положению в поле ясного сознания, неясного сознания или за порогом сознания[4].
Все эти попытки разбивались о невозможность объективно установить исходные данные: четко разграничить явления сознания, выделить их компоненты, определить их интенсивность, взаимодействие представлений и т. д. Эти трудности были так велики, что в середине XIX столетия искренний приверженец ассоцианистической психологии Д. С. Милль был вынужден сделать такие заключения:
1) явления сознания, принципиально ограниченные самонаблюдением, недоступны объективному анализу. Даже если бы мы четко различали свойства образов (чего на самом деле нет), то и это не спасло бы положения, так как помимо внешнего соединения, «физического смешения» элементов существует, говорил Д. С. Милль, «психическая химия», в результате которой части свойства производного явления совершенно не похожи на части и свойства исходных материалов. Нужен реальный, а не виртуальный анализ, но реальный анализ явлений сознания невозможен;
2) как сами явления сознания, так и смена их служат показателями работы мозга, — следовательно, изучение явлений сознания не составляет самостоятельной науки и может служить лишь косвенным показателем физиологических процессов, вспомогательным методом для «настоящей физиологии головного мозга». Поскольку такой физиологии во времена Д. С. Милля еще не было, он соглашался признать психологию законным, но только временным ее замещением[5].
Эти пессимистические заключения Д. С. Милля были вполне справедливы, но они не открывали новых возможностей, а главное, вскоре были отодвинуты далеко на задний план новыми перспективами психологического исследования, наметившимися в середине XIX века Новые возможности пришли в психологию извне, благодаря введению эксперимента в психофизиологию ощущений. Хотя поначалу это был, в основном, физиологический эксперимент, в котором и сами ощущения служили не столько предметом исследования, сколько показателями исследуемого физиологического процесса, но казалось только делом времени — подвести физиологические исследования вплотную к тем центральным нервным процессам, которые составляют непосредственную основу явлений сознания и таким путем, так сказать, снизу, со стороны мозга подойти к объективному исследованию самих психических процессов. Перспектива экспериментального исследования психики, которое прежде считалось принципиально невозможным, так воодушевила исследователей, что вскоре под знаменем «физиологической психологии» (В. Вундта) по всему миру развернулась сеть физиологических, нейрофизиологических, психофизиологических, а затем и собственно психологических экспериментальных исследований.
Но чем больше накапливался опыт таких исследований, тем больше нарастало разочарование: точность физиологических методик разбивалась о нечеткость субъективно-психологических показаний и разноголосицу их толкований. А без сопоставления с «непосредственными данными сознания» физиологические показатели лишались психологического значения. Характерны такие даты: движение за создание «физиологической психологии» началось с 60-х годов прошлого века; в середине 70-х годов возникают экспериментально-психологические лаборатории, а вскоре и целые институты. Но уже через 25—30 лет, к середине 90-х годов стали громко раздаваться голоса разочарования в научных возможностях такой психологии[6]. И через полтора десятка лет, к началу второго десятилетия нашего века эти голоса слились в открытый и громкий «кризис психологии».
Величайшей исторической заслугой «физиологической психологии» остается введение эксперимента в психологию. Но в той форме, в какой он применялся в «физиологической психологии», эксперимент опирался на ложную идею психофизического параллелизма и, естественно, не мог вывести психологию из оков субъективизма. Самая ориентация такого исследования психических процессов была ложной; она диктовалась субъективно-идеалистическим представлением о психике и разбивалась о него. В эксперименте эта принципиальная ошибочность «физиологической психологии» стала явной и, так сказать, вопиющей.
Первое время и этот кризис казался продуктивным: новые направления не только указывали на существенные недостатки «физиологической психологии», но и предлагали новые пути психологического исследования. Среди этих направлений для вопроса о предмете психологии принципиальное значение имел бихевиоризм — «психология как учение о поведении». Бихевиоризм открыто и прямо выдвинул требование изменить сам предмет психологии, отказаться от исследования явлений сознания, изучать только поведение как объективный процесс и только объективными методами.
Поведение как предмет психологии. Первоначально бихевиоризм сложился в зоопсихологии, где уже в 90-х годах прошлого столетия исследователи перешли от наивного истолкования поведения животных по аналогии с человеком к систематическому описанию того, как ведут себя животные в экспериментальных ситуациях, где они решают разные задачи: научаются открывать запоры клеток, находить в лабиринте путь к кормушке или выход из него, обходить или устранять различные препятствия, пользоваться для этого разными средствами и т. д. Задачи можно было широко варьировать по характеру и сложности; можно было вызывать разную активность, различные потребности животного; по-разному применять «награду» и «наказание», действовать на такие-то органы чувств или исключать некоторые из них, обращаться к разным двигательным возможностям животных и т. д. Зависимость поведения и научения животных от разных условий можно было описывать объективно, не прибегая к помощи догадок о том, что чувствует, думает или хочет животное. Материал был обширен, разнообразен, интересен, казалось, был найден объективный путь изучения того, что бесспорно относится к психологии и весьма существенно для нее.
И когда в психологии человека распространилось глубокое разочарование в научных возможностях «физиологической психологии», естественно возникла идея: перенести на человека метод, который оправдал себя (так казалось в то время) в гораздо более трудной (для объективного исследования) области психологии животных, перейти и в изучении человека от явлений сознания к объективному изучению поведения. Так возникло последнее, третье понимание предмета психологии — «поведение». Открыто и громко оно заявило о себе в самом начале второго десятилетия нашего века.
Поведение человека и животных имеет такое большое и очевидное значение для понимания их психики (это признавалось всеми и во все времена), что когда поведение было объявлено истинным предметом психологии, да еще обещающим возможность строго объективного исследования, это было повсеместно воспринято с воодушевлением. По словам историка, на некоторое время почти все психологи в большей или меньшей степени стали бихевиористами[7]; больше или меньше в том смысле, что, признавая основным объектом изучения поведение, они далеко не все и не в одинаковой мере отказывались от изучения явлений сознания.
Но с поведением, как предметом психологии, повторилось то же, что с явлениями сознания. Несостоятельность его обнаружилась по двум линиям.
Во-первых, хотя поведение, бесспорно, есть нечто объективное, однако его психологическое содержание (психологическое по тем критериям, которыми тогда располагала, да и теперь располагает психология) оказалось таким же недоступным объективной регистрации, как и в явлениях сознания. С помощью киносъемки, кинограммы, электромиограммы, электроэнцефалограммы и т. д. можно зарегистрировать лишь физические и физиологические изменения: движения тела и его органов, сокращение мышцы, их биотоки, биотоки мозга, сосудистые и секреторные реакции и т. п. Но движения (а тем более другие изменения организма) — это еще не поведение. Конечно, они как-то свидетельствуют о поведении, но это свидетельство непрямое. Движения приходится истолковывать, соотносить с целями поведения, с тем, как субъект понимает обстановку, пути и средства достижения своих целей. Без такого истолкования физические и физиологические изменения не составляют поведение и кажутся таковыми лишь наивному наблюдателю, привыкшему свое непосредственное толкование явлений принимать за их непосредственное восприятие. Когда же предъявляется строго научное требование, показать поведение, а не только двигательные, сосудистые, секреторные, электрические и прочие реакции, тотчас обнаруживается, что кроме этих реакций бихевиоризм ничего показать не может. И не может этого сделать не вследствие недостаточности технических средств и методик исследования, а вследствие того понимания объективности, с которым он сам выступает.
Невозможность физически, вещественно показать нечто большее, чем разные телесные реакции, ведет не только к тому, что представители бихевиоризма не могут дать психологический анализ поведения, но, более того, они не могут отличить его от тех реакций, которые в психологическом смысле поведением уже не являются, — от реакций внутренних органов (желудка и кишечника, сердца и сосудов, печени и почек и т. д.), от движений физических тел, работы машин. Если поведение — комплекс физических реакций, то и реакции внутренних органов суть тоже разные виды поведения. С этой точки зрения поведением можно назвать и работу технических устройств. Представители точных наук охотно пользуются словом «поведение» для обозначения действия этих разных систем и устройств. Они-то хорошо знают, о чем идет речь на самом деле, и для них слово «поведение» не больше, чем метафора, украшение речи. Но для психологической теории такая метафора — серьезная опасность, потому что психолог как раз и не знает, что есть поведение сверх того, что само по себе и в точном смысле слова не есть поведение. Если всякое движение и даже изменение есть поведение, то последнее не составляет предмет психологии; а если в поведении, как предмете психологии, есть еще что-то, сверх движений или изменений тела, то что же именно?
Во-вторых, еще одна и, пожалуй, основная несостоятельность бихевиоризма обнаружилась в том, что, желая изучать поведение без явлений сознания (которые будто бы радикально нарушают объективность исследования), представители бихевиоризма оказались перед жестким выбором: или перейти к изучению физиологических механизмов поведения, т. е. стать физиологами и сказать: нет никакой психологии, даже бихевиористической, есть только физиология поведения; или изучать механизмы поведения без физиологии, т. е. только как соотношение стимулов и реакций. Естественно, что уже основоположники бихевиоризма выбрали второй путь. Однако нельзя было «так просто» не учитывать физиологические механизмы, неоспоримо участвующие в поведении. Надо было как-то оправдать исключение центрального физиологического механизма из анализа поведения. И желаемое оправдание было найдено в виде известной бихевиористической гипотезы о работе мозга по принципу переключения более слабых нервных процессов на пути одновременно протекающих более сильных процессов. Согласно этой так называемой «гипотезе обуславливания»[8], психологу-бихевиористу вовсе не обязательно знать, какими путями идет возбуждение от слабого (индифферентного) стимула и как оно переходит на путь более сильного процесса, вызванного безусловным или имеющим определенное значение условным раздражителем. Важно только одно: это переключение всегда происходит — от слабого нервного процесса к более сильному — и в результате его раздражитель, вначале не связанный с данной реакцией, связывается с ней и начинает ее вызывать (реакцию более сильного раздражителя). В таком случае, зная силу действующих раздражителей и учитывая прошлый опыт «испытуемого», можно исследовать процессы научения, образования поведения, не вникая в его физиологические механизмы; их изучение можно представить физиологам. Образование же новых форм поведения составляет отдельную область исследования, предмет поведенческой психологии.
Такова была фундаментальная позиция «классического» бихевиоризма. Но очень скоро, уже в конце 20-х годов, стало очевидно, что нельзя объяснить ни поведение человека, ни поведение животного одним сочетанием наличных стимулов и прошлого опыта; что в промежутке между действием стимулов и поведенческими реакциями происходит какая-то активная переработка поступающей информации, которую нельзя свести к влиянию следов прошлого опыта; что это какие-то активные процессы, без учета которых не удается объяснить реакцию животного на наличные стимулы. Так возникает «необихевиоризм» с его важнейшим понятием «привходящих (или промежуточньих) переменных»[9] и отменяется основное положение первоначального бихевиоризма (который теперь нередко называют наивным).
Но каким образом необихевиоризм, признавая эти промежуточные переменные, может отмежеваться от физиологии мозга? Выход был найден в том разъяснении, которое получили «промежуточные переменные». Оказывается, они — наши давние знакомые: это «знак», «знаковая структура» (ситуация), «ожидание знаковой структуры», «ожидание признаков» (объекта), «ожидание отношений средств к цели», «заключение» (умозаключение) и т. п. Очевидно, все это психологические характеристики, однако нас все время уверяют, что на самом деле, т. е. в мозгу, это не «психологическое», а «физиологическое». Для видимой объективности изобретается целый словарь новой терминологии, с помощью которого эти психологические «переменные» облекаются в новую, не сразу понятую форму.
Не приходится сомневаться, что психологическое содержание «привходящих переменных» имеет свою физиологическую основу. Однако пока они остаются только физиологическими процессами, они и должны изучаться физиологически, но тогда они не «знак», не «ожидание», не «умозаключение» и т. п. Когда же они выступают как психические процессы, то в качестве психического отражения ситуаций они требуют нового и теперь уже психологического изучения и объяснения. Иначе говоря, необходимость учитывать «привходящие переменные» снова ставит представителей необихевиоризма перед выбором: или только физиология, но тогда не пригодны психологические характеристики промежуточных переменных; или не только физиология, но и психология, но где же тогда возможности собственно психологического и притом объективного исследования?
«Привходящие переменные» устанавливаются необи-хевиористами в результате, так сказать, нелегального и теоретически неоправданного психологического анализа поведения. Продолжая в теории отрицать значение психики, необихевиоризм на практике вынужден признать реальное участие психики в поведении и пользоваться его психологическими характеристиками. Словом, в качестве нового учения о предмете психологии бихевиоризм оказался дважды несостоятелен: он не смог выделить психологическое содержание поведения и не сумел объяснить поведение без помощи традиционных психологических «переменных».
Упорное отрицание бихевиористами психики и ее изучения было вызвано страхом перед нею как источником принципиально «субъективного» и принципиально ненаучного. Как справедливо указывал С. Л. Рубинштейн, это происходило оттого, что бихевиоризм знал и признавал лишь то представление о психике, которое считал неприемлемым в науке[10]. Конечно, это не было его особенностью, такое представление о психике бихевиоризм разделял со всей буржуазной философией и психологией. Вероятно, оттого-то представителям бихевиоризма и не приходило в голову, что ненаучной является не сама психика, а это ложное представление о ней, и что из науки следует исключить не психику, а именно это ненаучное и денатурированное представление.
Дата добавления: 2020-04-12; просмотров: 677;